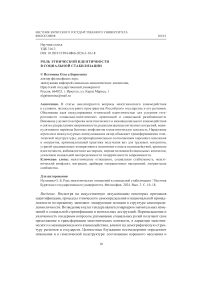Роль этнической идентичности в социальной стабилизации
Автор: Истомина О.Б.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются вопросы межэтнического взаимодействия в условиях поликультурного пространства Российского государства и его регионов. Обоснована идея спекулирования этнической идентичностью для усиления гетерогенности социально-политических ориентаций и социальной разобщенности. Внимание уделяется вопросам межэтнического и межнационального взаимодействия в связи с разрастанием напряженности, радикализации религиозных воззрений, манипулятивного перевода бытовых конфликтов в межэтническую плоскость. Нарастание агрессии в межкультурных коммуникациях автор объясняет трансформациями генетической подструктуры, диспропорциональным соотношением коренного населения и мигрантов, криминализацией практики получения виз для трудовых мигрантов, утратой традиционных императивов и позитивного опыта взаимодействий, кризисом идентичности, амбивалентностью морали, меркантилизацией социальных контактов, усилением социальной неопределенности гиперреальности современности.
Межэтнические отношения, социальная стабильность, межэтнический конфликт, миграция, драйверы миграционных настроений, мигрантские сообщества
Короткий адрес: https://sciup.org/148329880
IDR: 148329880 | УДК: 316.3 | DOI: 10.18101/1994-0866-2024-3-10-18
Текст научной статьи Роль этнической идентичности в социальной стабилизации
Истомина О. Б. Роль межэтнических отношений в социальной стабилизации // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2024. Вып. 3. С. 10–18.
Введение. Несмотря на искусственную актуализацию некоторых признаков идентификации, процессы этнического самоопределения и национальной принадлежности по-прежнему занимают лидирующие позиции в структуре самоопределения личности. Возведение в культ гендера является маркером значительных изменений в социальной стратификации и ментальных деструкций. Перенасыщение и увлеченность гендерным вопросом, размывание социальных ролей получают свое продолжение в трансформации межэтнических контактов, в характере межэтнического и межнационального взаимодействия, влияют на демографическую структуру регионов и государств. Ценностные блуждания постмодернити определяют изменения и в генетической подструктуре: соотношение коренного населения и мигрантов во многих регионах мира диспропорционально. Миграционные потоки настолько сильны, что являются доминирующим фактором изменения социокультурного портрета региона, поступательных широкомасштабных изменений практически всех подструктур общества: генетической, половозрастной, профессионально-образовательной, территориальной, конфессиональной и, конечно, этнонациональной.
Условия межэтнической конфронтации . «Парад суверенитетов» 1990-х гг. и связанная с ним репатриация значительным образом изменили не только генетическую, но и этнонациональную подструктуру российских регионов. Так, к примеру, этнический состав и численность постоянного населения Иркутской области характеризуются отрицательным сальдо миграции, массовым оттоком представителей еврейской, немецкой, белорусской, украинской этнических групп и въездом представителей Армении, Азербайджана, Таджикистана, молниеносно занявших ниши частного торгового сектора и общественного питания. Риски данных изменений связаны с теневыми, «серыми» формами занятости. Сегодня к данным секторам региональной экономики добавились сферы ЖКХ и строительства, которые практически полностью решают вопросы кадрового обеспечения за счет трудовых мигрантов, в том числе нелегальных, что не только криминализирует действующую обстановку в регионе, но и влияет на характер межэтнического взаимодействия, меняет привычный позитивный тип межкультурного взаимодействия.
Тектонические переломы в привычных структурах социальных систем оборачиваются «перевернутыми», а порой и «опрокинутыми» ценностями. В условиях нарастания конфронтации, радикализации некоторых религиозных воззрений, распространении международного терроризма, роста агрессии ввиду несправедливого распределения социальных благ, финансовых разрывов, диспропорции доходов экономической элиты и бедных слоев населения гендерный и радикалист-ский терроры усугубляют число и масштаб конфликтов, замешанных на межэтнической и межнациональной розни.
Как ни странно, размывание гендерных ролей в ряде территорий мира способствует инфантилизации и выученной социальной беспомощности молодого населения целых регионов мира. Ярким примером данной беспомощности стали демонстрации инфантильности европейских мужчин, неспособных защитить женщин от насилия со стороны мигрантов (2017 г.). Позиция автора в полной мере солидаризируется с мнением Н. С. Михалкова (Бесогон ТВ. Изображая жертву, 19.11.2017).
Универсализация и установки на построение единого глобального пространства усугубили тягу к индивидуализации, девальвацию всего социального в жизни человека, преобладание личного (индивидуального) над социальным (общественным), Я-ориентаций над МЫ-ориентацией. В погоне за успехом личного и желанием поливариативного самоопределения для удовлетворения Я-ориентаций вопросы этнической идентификации и определения ценностей, мировоззренческих установок национальной культуры находятся в состоянии девальвации. Утрата чувства Родины лишает укорененного сознания, осознания принадлежности к большой и значимой в жизни человека группе. Иррациональная рациональность современности, доставшаяся в наследство от постмодерна, возводит в культ гендер и отдаляет от нарраций этногруппы, ее архетипов, культурного кода, лишает социально значимых благ соотнесения с большой ментально близкой, понятной в коммуникативном поведении, ценностных воззрениях, общих по фенотипу проявлениях внешнего и внутреннего характера группой.
Думается, что постулаты эффективности макдональдизированной культуры современности, подменившей позиции качества на количественные замеры успешности, отражаются и в подмене степеней важности в жизни человека его статусных ролей. Террор свободы постмодерна узурпировал значимые типы идентичности по этническому принципу, национальной и религиозной принадлежности, подсунув взамен свободу выбора гендера, предварительно расширив его рамки на всевозможные небинарные варианты, являющиеся триггерами серьезных патологий не только в личностном самоопределении и развитии, но и препятствующие социализации, инкультурации, профессионализации личности.
Девальвации ценностного нарратива — самые очевидные социальные проявления террора гендера на европейских территориях. Демпинг духовного и позиционирование материального успеха обусловлены снижением духовности, религиозного типа мировоззрения и намеренного, целенаправленного снижения роли церкви в жизни народных масс. Признаки «старения», упадка цивилизации проявляются в нападках, ограничении ратующей за сохранение традиционных императивов и духовно-нравственных ценностей православной церкви. Ярким хрестоматийным примером дисбаланса материального / духовного является ограничение службы РПЦ и создание новых «религий», имеющих право согласно традиционным канонам мировых религий называться деструктивными сектами, культами. Так, к примеру, западный мир демонстрирует рост числа прихожан (на сегодня насчитывается более 20 млн последователей) Адонотологии, принесшей на смену десяти заповедей лишь одну — поклонение пышным ягодичным мышцам.
Критика в отношении признанных, имеющих многовековую историю развития мировых религий, зачастую выражается в прямом оскорблении чувств верующих, публичном сжигании / уничтожении / порче священных текстов, что напрямую расширяет поле конфронтации, разжигает межэтническую и межнациональную рознь. Очевидно, что «неопределенность социальных стратегий, поливариантность самовыражения в социально-бытовых, политических, экономических, профессиональных условиях обусловливает неопределенность идентификаций. Моральные дилеммы постмодернистской реальности вызывают кризис идентичности» [6, с. 4].
Думается, что в целях решения конкретных экономических вопросов элита использует мощный ресурс этнической идентификации для социально-политических расколов, разжигания розни, особенно на территориях, стремящихся к построению многополярного мира.
Радикализация религиозных воззрений обретает в современных реалиях особые смыслы, становится основополагающим инструментом разобщения, дистанцирования этнических групп в поликультурных регионах мира и государств, что, как доказала практика западного гегемонизма, является предвестником цветных революций. Трагические события в Крокус-сити, в ИК-19 в Волгоградской области, двойной теракт в Дагестане — все это признаки институционализации ваххабизма [7].
Кризис идентичности, умноженный на информационный террор, никуда не ушедшие потребности индивида в самоопределении, по меткому выражению Э. Фромма, «бегство от свободы» требуют своего разрешения. К сожалению, найденные сценарии не всегда соответствуют принципам гармоничного развития и позитивных установок поликультурного диалога. «Расширение и усиление незащищенности личности в условиях стремительных общественных изменений, контроль и прогнозность которых осложнены», актуализируют потребности идентификации, зачастую при манипулятивном влиянии экономических элит находит не только деструктивное, но и патологическое, социально опасное выражение [1, с. 8].
Ярким маркером дестабилизации межкультурных контактов являются распространение пейоративной лексики , инвективы, увеличение числа неологиз-мов-этнофолизмов в общем объеме дискурса. Риски роста инвектив и масштабирование их употребления в поликультурном пространстве наряду с опасениями ядерной войны являются напрямую не меньшей экзистенциальной угрозой, так как их укоренение в сознание наипрочнейшим образом препятствует налаживанию межкультурного диалога для нескольких речевых поколений. «Срежесси-рованный» Западом конфликт в славянском мире — прямое доказательство как от речевых атак через сформированные деструктивные чувства в сознании молодежи осуществляется переход к прямым вооруженным атакам. «Инвектива как вид психологической атаки, выраженный вербальными средствами» [2, с. 196], имеет все перспективы перерождения в открытый военный конфликт. Характер речевого взаимодействия не менее важен, чем социальные контакты, так как в социокультурном пространстве этногруппы объединяются ее «онтологическое (бытие этноса) и гносеологическое (отражение и оценка в индивидуальном мировоззрении особенностей этнокультуры) основания идентичности» [4, с. 129].
В связи с этим федеральные документы и, в частности, Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации и Стратегия национальной безопасности определяют наиболее рискогенные факторы социальных деструкций и катастроф, среди них: «размывание традиционных ценностей, правовой нигилизм, дискриминация по национальному признаку, недостаточность образовательных и культурно-просветительских программ, отсутствие профилактики экстремизма, недостаточное урегулирование миграционных потоков, религиозный экстремизм»1 и т. п.
Не вызывает сомнения, что имеет аксиоматичный характер корреляция проблем демографической структуры регионов и государства с решением проблем и трудностей этнической идентификации. Наблюдается прямая связь распространения позитивного типа этноидентификации и стабилизации социальных отношений.
Значимым ресурсом социальной стабилизации и укоренения практик позитивной этнической идентичности является налаженная миграционная политика. Ее растущая роль определена изменением родительских ролей и установок, постмодернистской «зацикленностью на себе», террором гендера и поисками очередных кризисов идентичности, инфантилизацией населения и трендом на отложенное деторождение, что обусловливает «изменения в российской демографической структуре, как то увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста и, как следствие, рост демографической нагрузки, суженное воспроизводство» [5, с. 12].
В большинстве регионов проблемы растущей демографической нагрузки решаются привлечением трудовых мигрантов. Большая часть экспертов демографов определяет причину межэтнических конфликтов в изменении численного соотношения коренного и пришлого населения, в росте миграции, в укоренении нелегальных оснований присутствия на территории, избегании мигрантами и их работодателями налоговых обязательств. Еще большей синергийностью обладает, на наш взгляд, радикализация мышления на псевдорелигиозной основе. Значительная часть преступлений, совершенных мигрантами, происходит по причине их отступлений от учений ислама, а также институционализацией ваххабизма, радикализацией взглядов, готовностью к экстремистской и террористической деятельности.
Дефекты миграционной политики как фактор межэтнической розни. Утраченный опыт советской модели «дружбы народов» вслед за суверенитетами республик, либерализацией всего социального, социокультурной деградацией, диктатом псевдолиберальных ценностей не был сменен достойными идеями-приемниками. Концепт «толерантность» в социально-политическом дискурсе и культурном контексте был девальвирован и подменен идеями вседозволенности и, по сути, диктатом меньшинства над большинством. Абсурдность «опрокинутых» ценностей эпохи неопределенности и террора свободы идентификаций обострили вопросы межкультурного взаимодействия. Разность мировосприятия, мироощущения, миропонимания и, как следствие, мироотношения регионов с традиционными ценностями с территориями неолиберализма ощутима.
Дефекты миграционной политики сегодня ощутимы во всех точках мира. На территории современной России с ее принятием культурного разнообразия всей этнонациональной структуры негативное отношение к мигрантам обусловлено рядом объективных причин:
-
- диаспорное проживание и коммуникации внутри привычного этнического окружения, препятствующие освоению государственного языка, инкультурации в целом;
-
- неуважительное отношение к населению принимающей стороны;
-
- неготовность или вовсе отказ интеграции в социокультурное пространство региона прибытия. Коренное население воспринимает данное поведение как вызывающую форму агрессии в общественном смысле. Насаждение
мигрантами своих ценностей и обычаев против воли способствует дистанцированию и множит социальные конфликты. Так, по результатам опроса ВЦИОМ 52 % россиян присоединяются к инициативе о запрете трудовым мигрантам, приехавшим по временным контрактам, перевозить свои семьи в Россию1;
-
- конфликты в трудовой сфере и занятость мигрантов ввиду согласия на демпинг оплаты труда;
-
- рост числа противоправных деяний, резонансных преступлений мигрантов.
Пожалуй, данные факторы вызывают наибольшее социальное отторжение и отдаляют от ранее привычных императивов взаимоуважительного общения этносов. Внутренние противоречия, умноженные на усилия радикальных сообществ и агентов иностранного влияния, становятся по-настоящему экзистенциальной угрозой современного полиэтничного региона и государства в целом. СМИ активно будируют вопросы межэтнической конфликтности, зачастую переводя бытовые вопросы в плоскость межэтнической, межконфессиональной розни. Растущую напряженность в межнациональном взаимодействии отмечают 39 % россиян. Следует сказать, что за последнее десятилетие данный показатель снизился на 18 позиций, «в 2013 г. так считали 57 %. За весь период наблюдений показатель менялся нелинейно, направленного тренда нет»2. По сообщениям телеграм-канала «RT на русском» от 03.09.2024, за текущий неполный год «на 69 % выросло количество преступлений, совершенных трудовыми мигрантами. Иностранцы в России уже совершили в 2024 г. более 23 800 криминальных деяний, число тяжких преступлений возросло на 12 %».
Необходимо отметить, что разрастание агрессии в отношении мигрантов связано и с феноменальной контагиозностью негативного контента в социальных сетях. Резонансных инфоповодов, к сожалению, в избытке. В ситуации трагедий и массовых катастроф обывателю достаточно сложно объяснить, что девиации и делинквентность не имеют этнической принадлежности. Так, к примеру, ряд исследований и статистика по преступному поведению мигрантов гласят о том, что в 2022–2023 гг. «мигранты совершили около 2 % преступлений в России, в большинстве случаев правонарушители — мужчины, а их преступления не выходят за пределы мигрантских сообществ. В отношении граждан России фиксируется незначительная доля преступлений, но именно они вызывают наибольший резо-нанс»3. Как известно, резонансы в обществе усиливаются вместе с укоренением неприязни, фобий и открытой агрессии к инокультурным проявлениям, особенно если это инокультурное выражение не предпринимает попыток интеграции и налаживания позитивного диалога.
Заключение. Не вызывает сомнения необходимость пересмотра позиций межнациональной и миграционной политики, от которых во многом зависит социальное благополучие населения. Не случайно этническая идентификация используется в манипулятивных схемах разжигания розни, рукотворных цветных революций. Ее значимость в структуре самоопределений гражданина остается ведущей.
Для практических решений проблем межкультурного взаимодействия автор предлагает ряд мер, среди них наиболее перспективными представляются следующие:
-
- осуществлять контроль за организациями, проводящими государственное тестирование по русскому языку как иностранному иностранных граждан и лиц без гражданства для приема в гражданство РФ. Во избежание коррупции исключить из перечня данного профиля частные и коммерческие структуры;
-
- осуществить запрет на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства с судимостью, в том числе погашенной. Обратить особое внимание на юридическую историю получивших ранее гражданство и/или временную визу (трудовую/ ученическую), выявить их историю в судебной системе, взять на контроль и/или депортировать осужденных за убийства, насилие, изготовление/распространение наркотических средств, экстремизм, терроризм, радикализм;
-
- в связи с тем, что на современном этапе в РФ треть мигрантов являются носителями ВИЧ-инфекции, во избежание распространения данных инфекционных заболеваний с высокой вирулентностью и требующих дорогостоящего лечения, наносящих непоправимый вред генофонду нации, включить в программу приема в гражданство РФ обязательное медицинское исследование на ВИЧ, СПИД, туберкулез, гепатиты. Ограничить, в некоторых случаях запретить въезд лиц с данными заболеваниями по любым причинам (гостевая, ученическая, трудовая виза);
-
- с целью гармонизации межэтнических отношений и сохранения позитивной этнической идентификации в поликультурном регионе предусмотреть меры по социализации мигрантов и членов их семей, получивших гражданство РФ, их интеграции в общекультурное пространство региона;
-
- во избежание геттоизации отдельных районов в регионах, привлекательных для мигрантов, продумать и предложить к апробации (на основании результатов социологических замеров) наиболее приемлемые варианты комплектования классов и детских групп. Исключить варианты класс-комплектов, состоящих полностью из детей мигрантов.
У нас не вызывает сомнения, что для минимизации числа и масштабов межэтнических и межнациональных конфликтов на территории поликуль-турного Российского государства необходима ревитализация положительного опыта советского периода концепта «дружба народов», внедряемого в современные реалии как принцип гармонии многообразия единого униформного вида. Важно, что, несмотря на имеющийся негативный опыт и лакуны положений текущей межнациональной политики, «большая часть россиян (60 %) уверена, многонациональность делает нашу страну только сильнее, 81 % опрошенных не испытывают тревоги или страха по отношению к представителям других национальностей»1.
Роль этнической идентичности в стабилизации общества остается значительной. В ситуации массовых военных катастроф и экзистенциальных угроз интеграция прежде всего происходит по этнонациональному признаку. Перед российским обществом стоит сложная задача построения диалога для сохранения и обеспечения стабильности. «К сожалению, невозможно поменять мировоззрение нации или этноса подписанием новой стратегии распределения миграционных потоков. Необходима ревитализация конструктивных и успешных в прошлом программ межкультурного диалога. Важно от терпимости и дискредитированной западным миром толерантности вернуться к признанию позитивной этноидентификации (от уважения к своей этногруппе к внимательному равному отношению к иному проявлению этнокультуры), «к симфонии народов, их культурных кодов и нарраций» [3, с. 17–18].
Список литературы Роль этнической идентичности в социальной стабилизации
- Истомина О. Б. Бытие и неопределенность социальных стратегий: вызовы времени // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2022. № 2. С. 3-10. Текст: непосредственный. EDN: TATYJI
- Истомина О. Б. Инвектива как способ социально-психологического маркирования дискурса // Европейский журнал социальных наук. 2015. № 3. С. 196-203. Текст: непосредственный. EDN: TVMRMN
- Истомина О. Б. Межэтнические отношения и гиперреальность современности: вызовы и перспективы стабилизации // Межэтнические отношения и процессы в современном мире: сборник статей всероссийской научной конференции. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та им. Д. Банзарова, 2024. 154 с. Текст: непосредственный. EDN: BHYJEK
- Истомина О. Б. Языковые контакты в современном российском обществе: сущность, формы, тенденции (региональный аспект): диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук / Бурятский государственный университет. Улан-Удэ, 2013. 335 с. Текст: непосредственный. EDN: SUXWCT
- Истомина О. Б., Аншукова Т. Б. Старшее поколение: региональные особенности социального положения // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2016. № 11(93). URL: http://www.uecs.ru (дата обращения: 05.08.2024). Текст: электронный. EDN: XAGXXT
- Истомина О. Б., Ринчинов З. А. Профессиональное самоопределение как фактор регуляции трудовых отношений в современном российском регионе. Иркутск, 2021. 89 с. Текст: непосредственный. EDN: WAXFQR
- Миронова А. Институционализированный ваххабизм. URL: https://360-ru.turbopages.org/360.ru/s/tekst/obschestvo/institutsionalizirovannyj-vahhabizm (дата обращения: 06.08.2024). Текст: электронный.