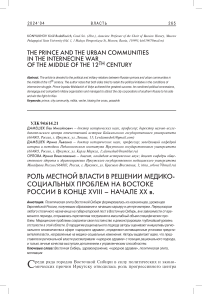Роль местной власти в решении медико-социальных проблем на востоке России в конце XVIII - начале XX в
Автор: Дамешек Л.М., Дамешек И.Л., Орлова И.В.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
Политическая элита Восточной Сибири формировалась из назначенцев, уроженцев Европейской России, получивших образование и начавших карьеру в центре империи. Перед взором любого столичного назначенца на губернаторский пост в Восточную Сибирь, вне зависимости от временного периода, открывалась перспектива погружения в масштабный объем специфических проблем. Медицинские проблемы сохраняли свое постоянство и демонстрировали глубочайший уровень отсталости в этой области. В парадигме рационального подхода авторы оценивают инициативы регионального чиновничества в сфере «народного здравия», определяют мотивационные установки представителей власти, направленные на медико-социальные изменения. Авторы выдвигают идею, что представители региональной власти рассматривали «народное здравие» с позиции рационального подхода, и только личные качества выступали дополнением к управленческим способностям.
Восточная Сибирь, здравоохранение, «народное здравие», политическая элита, мотивация
Короткий адрес: https://sciup.org/170206278
IDR: 170206278 | УДК: 94:614.21 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-4-265-272
Текст научной статьи Роль местной власти в решении медико-социальных проблем на востоке России в конце XVIII - начале XX в
Среди ряда городов Восточной Сибири в силу политических и экономических причин Иркутску отводилась роль прогрессивного центра со значительно опережающими темпами развития во всех сферах общественной жизни. Безусловно, этому способствовал статус Иркутска, в т.ч. как резиденции «начальников края». Современные исследователи считают, что принципиальной особенностью Иркутска в XIX – начале XX вв. было сосредоточение трех уровней власти – городского самоуправления, губернской администрации и генерал-губернаторства [Дамешек, Дамешек 2016: 7]. Обособленность Восточной Сибири способствовала не только формированию самобытной модели управления, но и распространению этой модели во всех административно-территориальных образованиях региона. Даже после выхода Якутской и Забайкальской областей из-под административного покровительства Иркутска триада власти оставалась определяющим фактором для развития крупных центров региона – Красноярска, Иркутска, Верхнеудинска, Читы, Якутска и прилегающих к ним территорий. Это находило выражение в решении многих проблем, в т.ч. медико-социальных, при этом характер и эффективность принятых решений напрямую зависели от личностных характеристик региональных руководителей разных уровней власти. В данной статье мы рассмотрим мотивацию представителей чиновничьей администрации региона в решениях вопросов «охранения народного здравия», проанализируем результативность внедряемых мер и создания базовых институциональных элементов для развития системы здравоохранения.
Доминирующая роль Иркутска как центра инициатив и преобразований на востоке Российской империи наметилась в начале XIX в., но стала отчетливо проявляться с середины столетия, что позволило Г.Н. Потанину сформулировать ставшее весьма популярным заключение об иркутской политической элите: «Ни один город в Сибири не был поставлен в такие условия, как Иркутск; ни в Томске, ни в Омске никогда не было такого хорошего подбора чиновников, какой был в Иркутске, благодаря его генерал-губернаторам… эти чиновники иногда с университетским образованием, поднимали в местном обществе не только запросы внешней культуры, но и приучали его интересоваться и русской литературой, и вопросами общественной, и государственной жизни» [Потанин 1908: 236-240]. Позволим себе предположить, что Г.Н. Потанин выразил это мнение, основываясь на контрасте Иркутска и других городов, на фоне стремительного старта сибирских преобразований. Во второй половине XIX в. эти изменения стали возможными благодаря развитию общественной инициативы при безусловной поддержке чиновников (иначе и быть не могло). Оставив чувственное и эмоциональное восприятие, подходя с рациональных позиций, следует задать вопросы: на всей ли территории Восточной Сибири и в одинаковой ли степени происходили изменения? Только ли уровнем образованности чиновников Восточной Сибири было продиктовано их влияние на ход преобразований?
Критический анализ современных исследователей основывается на прагматической составляющей и определяет деятельное участие власти в социокультурных процессах в рамках утилитарной концепции. Очевидны стремление иметь «опору для сибирской администрации» как средство поддержания канала коммуникации с местной интеллигенцией [Матханова 2020: 26]; необходимость поддержки той инициативы, что совпадала с интересами власти и в перспективе создавала комфортную среду в пределах местопребывания региональной администрации [Кузнецов 2002: 291]. Бесспорным остается масштабный характер процессов: это научные исследования края, развитие образования, культуры.
В парадигме рационального подхода рассмотрим инициативы регионального чиновничества по более узкому, но не менее значимому направлению – здравоохранению и определим мотивационные установки представителей власти, направленные на медико-социальные изменения.
В региональной историографии принято оперировать такими категориями, как «реформы Сперанского», «преобразования Н.Н. Муравьева», «инициативы Горемыкина» и пр., которые стали своего рода реперными точками исторического процесса в Восточной Сибири. Безусловно, все это имеет под собой глубокие политические и экономические основания, за масштабом которых нередко растворяются медико-социальные изменения, менее заметные, но призванные дополнять характеристику периода.
Политическая элита Восточной Сибири формировалась из назначенцев – уроженцев Европейской России, получивших образование и начавших карьеру в центре империи. Перед взором любого столичного назначенца на губернаторский пост в Восточную Сибирь вне зависимости от временного периода открывалась перспектива погружения в масштабный объем специфических проблем. На фоне развития центральных регионов России, где чиновник исполнял обязанности до сибирского назначения, ВосточноСибирский край демонстрировал катастрофический упадок. В течение XIX – начала XX вв. медико-социальные проблемы в Сибири сохраняли свое постоянство и демонстрировали глубочайший уровень отсталости:
– сеть лечебных учреждений не соответствовала ни количественным, ни качественным потребностям времени и региона;
– перманентный дефицит профессиональных кадров осложнялся этносоциальными особенностями населения и природно-климатическими условиями медицинской службы, малочисленностью состава медиков-профессионалов;
– отрицательная динамика демографических показателей отражала высокую смертность населения в результате повальных болезней и низкого уровня санитарно-гигиенических условий труда и быта сибиряков, что с позиций экономического ресурса влекло за собой сокращение податного населения.
Руководствуясь в первую очередь хозяйственными и политическими задачами, каждый представитель региональной политической элиты рассматривал сферу «народного здравия» с позиции рационального подхода, и только личные качества выступали дополнением к управленческим способностям. Характер выдвигаемых инициатив, методы решения проблем, личное отношение к их практическому воплощению, т.е. все, что включает в себя потанинское понятие «хороший подбор чиновников», было вторичным фактором в управленческой системе, хотя и весьма немаловажным.
Иркутский летописец Антон Лосев приводил факты прогрессивных инициатив администрации на этапе формирования местной политической элиты. Первому иркутскому губернатору Карлу Львовичу фон Фрауендорфу (1763– 1767) принадлежало принятие мер по санитарному благоустройству Иркутска в виде вырубки зарослей хмеля и поддержания чистоты на улицах [Чикишева 2012: 161].
Эти начинания были поддержаны сменившим его губернатором Адамом Ивановичем Брилем (1767–1776). Когда из Святейшего правительственного синода в Иркутск был доставлен указ от 17 ноября 1771 г. «О непогре-бении при церквах мертвых тел», в городе было отведено особое место для общегородского кладбища на горе, получившей название Иерусалимской [Орлова 2022: 15]. В дальнейшем эта мера, имевшая медико-санитарное зна- чение, положила начало регистрации смертности горожан, а позже – статистике причин смертности населения. Следуя внутриполитическим тенденциям, направленным на борьбу с натуральной оспой, губернатор А.И. Бриль активно информировал правительство о высокой смертности населения губернии от натуральной оспы, особенно подчеркивая потери в численности ясачного населения. Прямая зависимость доходов казны от пушнины и активная государственная программа по борьбе с натуральной оспой обусловили открытие в Иркутске в феврале 1772 г. оспенного дома как пункта для прививания «оспенной материи». Для Иркутска это стало уникальным событием, к тому времени лишь несколько городов России были удостоены такого учреждения, что объяснялось статусом края и практической необходимостью сохранить податное население (особенно ясачное). Очевидно, что открытие оспенного дома не могло быть гарантом масштабности проводимых мероприятий по оспопрививанию. Осознавая «провальность» ситуации, губернатор А.И. Бриль проявил личную инициативу и по примеру императрицы Екатерины II в присутствии представителей «туземных родов и племен с той целью, чтобы убедить их в безопасности прививок и их целебности» привил оспу своим детям [Малоземова 1961: 47]. Рискованное решение было оправданным, что подтвердила официальная статистика: за 3 года работы оспенного дома в нем было привито 6 450 чел., из них умерли всего 28 чел. Губернатору принадлежала инициатива организации медицинского обслуживания инородцев. Описания А.И. Сбигнева содержат инструкцию начальнику Камчатки Магнусу Карлу фон Бему: «В проезд Ваш через Якутск взять там подлекаря с медикаментами для пользования в Камчатке служилых и других от оспы и разных болезней. Подлекарю… предписать, чтобы он в прививании оспы поступал по силе регламента, согласно с разосланным наставлением». Так, согласно наставлениям губернатора, М.К. фон Бем открыл первую больницу, лекарь Робен стал первым медиком Камчатки, состоящим на постоянной службе [Сгибнев 1869: 29].
Такое радение к прогрессивным методам и управленческим инициативам не осталось незамеченным. После отъезда из Иркутска А.И. Бриль занимал ряд высоких постов, в т.ч. был президентом Вольного экономического общества, имевшего статус научно-практического центра по распространению оспопрививания.
В 1779 г. по инициативе другого иркутского губернатора Франца Николаевича Клички (1778–1784), слывшего человеком просвещенным и деятельным, городовой врач штаб-лекарь Грунд провел исследование горячих источников на Байкале для использования их в лечебных целях. До наших дней не сохранились документы, раскрывающие мотивацию губернатора, но с учетом комплекса прогрессивных начинаний при Ф.Н. Кличке (развитие хлебопашества в Сибири, открытие музея в Иркутске) принято рассматривать факт изучения свойств минеральных источников как начало развития региональной бальнеологии.
Последовательный интерес к минеральным источникам проявляли чиновники разных эпох. Так, усилиями иркутского губернатора Николая Ивановича Трескина (1806–1819) была проложена дорога к Тункинским минеральным источникам, выстроены помещения для больных и учреждена должность смотрителя. В свою очередь, среди противоречивых оценок деятельности Н.И. Трескина встречается замечание, что в Дарасуне Трескиным для собственной жены «подле источника отстроен деревянный дом с особой ванной» [Геращенко 2014: 211]. Позже подобная личная мотивация была отме- чена и у восточносибирского генерал-губернатора Вильгельма Яковлевича Руперта (1837–1847). В 1840 г. В.Я. Руперт на исследование лечебных свойств минеральных вод в Тункинской долине направил инспектора Иркутской врачебной управы доктора Сорочинского и аптекаря Калоу. После чего были выделены средства на строительство сооружения для водолечения жены генерал-губернатора. Освоение же источника началось в 1846 г. Личная заинтересованность прослеживались и в деятельности нижнеудинского исправника эпохи губернатора Н.И. Трескина Лоскутова. Административная карьера обоих закончилась бесславно, разбившись о ревизионную деятельность М.М. Сперанского. Представленная суду характеристика представителя местной власти Лоскутова как человека жестокого и корыстолюбивого, обладавшего с дозволения Трескина абсолютной местечковой властью, державшейся на запугивании населения, доносах и взятках, сводит к нулю такие факты, как выделение Лоскутовым собственных средств на строительство школы и больницы в Нижнеудинске (1811 г.). Существует мнение, что эти благодеяния были продиктованы корыстью и вознаграждены поддержкой губернатора Трескина при ходатайстве на чин.
Появление в Сибири управленческого феномена сибирского генерал-губернатора Михаила Михайловича Сперанского (1819–1821) сложно переоценить как в масштабе личности, так и с позиции реформаторской деятельности. Восточная Сибирь до М.М. Сперанского представляла окраинную территорию со всеми российскими пороками и провинциальной неустроенностью, не готовую к серьезной ревизии и масштабным преобразованиям. В отношении постановки медицинского дела к моменту появления М.М. Сперанского в Иркутске функционировала губернская Врачебная управа со штатом в 2 человека: инспектор – штаб-лекарь надворный советник Поддубный, акушер – штаб-лекарь Малиновский, должность оператора была вакант-ной1. Медицинские чины Врачебной управы управляли немногочисленным составом уездных лекарей. В таких городах, как Иркутск, Нижнеудинск, Киренск, существовали гражданские больницы, что касается Красноярска и Енисейска, то статус уездных городов в составе Томской губернии (до 1822 г.) предписывал им содержать по одному уездному лекарю.
Главная заслуга М.М. Сперанского состояла не столько в проведенной ревизии, сколько в разработке проектов сибирских преобразований. В ходе подготовки законодательства для Сибири были проинспектированы лечебные заведения, выдвинуты идеи по реконструкции Иркутской гражданской больницы, по формированию штата медицинского персонала. Особое внимание было уделено условиям содержания ссыльных и каторжан, в т.ч. оказанию им медицинской помощи. Так, на пути следования арестантов были устроены помещения для ночлега и отдыха, больницам приказов общественного призрения вменялось в обязанность бесплатно пользовать арестантов [Вагин 1872: 245].
В результате административнойреформы, разработанной М.М.Сперанским, в составе Восточно-Сибирского генерал-губернаторства в 1822 г. была образована Енисейская губерния, первым губернатором которой стал Александр Петрович Степанов (1823–1831). Знакомство с вверенной ему территорией А.П. Степанов начал сразу по приезде в Красноярск, что подтверждено про- токолами заседания казенной палаты, где зафиксированы маршрут и суммы прогонных денег для губернатора и его сопровождения. Результатом этой поездки стал объемный труд А.П. Степанова «Енисейская губерния», изданный в 1835 г. и впервые переизданный только в 2017 г., в котором он отмечал: «Болезни свирепствуют, наиболее скорбут, воспалительная горячка, сифилитическая, понос кровавый, катаракта. Сей последний почти у всех и беспрестанно» [Степанов 2017: 109-110]. Ко времени появления Степанова в Красноярске уже существовала городская больница (с 1818 г.), был больничный дом и в Енисейске. В воспоминаниях красноярского мещанина И. Парфентьева, отец которого служил во времена Степанова, находим о губернаторе следующие воспоминания: «Заботами и неустанной деятельностью его превосходительства в Красноярске в скором времени были воздвигнуты каменные здания для больницы, богадельни, дома умалишенных, воспитательного дома, ‹…› словом, что требовалось по закону для губернского города, все это устроено было скоро и в приличном виде» [Воспоминания Парфентьева… 2016: 32]. Говоря о «требуемом по закону», мемуарист имел в виду учреждение Енисейской врачебной управы и Енисейского приказа общественного призрения, что определялось новым статусом Красноярска как губернского центра. Первый штат Енисейской врачебной управы состоял из двух чинов (вместо положенных трех): инспектора – штаб-лекаря Виноградского и оператора – медико-хирурга Троицкого; должность акушера была вакантной. Согласно законодательству, в каждом уездном городе определялась должность врача, но в 1824 г. только в Красноярске состоял уездный врач штаб-лекарь Сорочинский, в остальных уездных центрах (Енисейск, Минусинск, Ачинск, Канск) и при Шуркинских минеральных водах эти должности еще долгие годы оставались вакантными, не было и губернского ветеринарного врача. И.Ф. Парфентьев, по воспоминаниям отца, дал личностную характеристику А.П. Степанову: «Взяток он не терпел: при отце моем он ругал ветеринарного врача за послабление его, при бывшем в то время скотском падеже, узнав, что этот врач с какого-то скотопромышленника взял деньги, ругался и ревел на него с таким ожесточением, что крик слышен был в гостином дворе и, наконец, прогнал вон из службы» [Воспоминания Парфентьева… 2016: 33]. Гражданская позиция А.П. Степанова раскрывается через его связи с декабристами, что стало причиной наветов и повлекло отставку. Губернатору ставили в вину то, что с декабристов были сняты кандалы, что письма доставлялись, минуя жандармский контроль. В этот период времени иркутские чиновники также выстраивали неформальные отношения с декабристами, но без радикальных последствий для карьеры. По представлению восточносибирского генерал-губернатора Семена Богдановича Броневского (1835–1837) «ввиду недостатка в крае медиков» декабристу и профессиональному врачу Фердинанду Вольфу в 1836 г. была разрешена врачебная практика в Иркутске. В качестве аргументов приводились доводы об остром дефиците медицинских кадров при Иркутской врачебной управе, нежелание медиков Центральной России ехать в Сибирь.
Конец XVIII – первая треть XIX в. ознаменовались трансформацией подходов региональной власти к анализу состояния вверенной им территории, переходом к комплексной инспекции основных задач и сопутствующих этому процессов. Безусловно, начало системному подходу было положено М.М. Сперанским, при этом дифференциация на отраслевые задачи не произошла, медицинская часть оставалась на протяжении долгого времени «ресурсосберегающим» фактором.
Список литературы Роль местной власти в решении медико-социальных проблем на востоке России в конце XVIII - начале XX в
- Вагин В.И. 1872. Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в Сибири. СПб. Т. 1. 801 с.
- Воспоминания Парфентьева Ивана Федоровича (1777—1898): рукопись из фондов Красноярского краевого краеведческого музея. 2016. Красноярск: Поликор. 360 с.
- Геращенко А.Н. 2014. Трескин и Цейдлер — иркутские гражданские губернаторы первой половины XIXв. Иркутск: Оттиск. 400 с.
- Дамешек И.Л., Дамешек Л.М. 2016. М.М. Сперанский в Иркутске. 18191822. Иркутск: Оттиск. 48 с.
- Кузнецов А.А. 2002. Чиновничество иразвитие культуры губернских и областных центров Восточной Сибири во второй половине XIXвека: дис.... к.и.н. 323 с.
- Малоземова А.И. 1961. Из истории здравоохранения в Иркутской области. Иркутск: Иркутское книжное издательство. 180 с.
- Матханова Н.П. 2020. Диалог власти и общества: опыт генерал-губернаторов Восточной Сибири и Приамурья второй половины XIX в. - Известия Иркутского государственного университета. Сер. История. Т. 33. С. 23-30.
- Орлова И.В. 2022. Хроника провинциальной медицины: Иркутск и его окрестности в досоветский период. Иркутск: ООО «Репроцентр +». 336 с.
- Потанин Г.Н. 1908. Города Сибири. Сибирь, ее современное состояние и ее нужды: сборник статей (под ред. И.С. Мельника). СПб: Изд-во А.Ф. Девриена. 294 с.
- Сгибнев А.С. 1869. Исторический очерк главнейших исторических событий в Камчатке с 1650-1856гг. СПб. 130 с.
- Степанов А.П. 2017. Енисейская губерния. Красноярск: РАСТР. 268 с.
- Чикишева Н.А. 2012. Труды иркутского краеведа А.И. Лосева как источник по истории Сибири первой половины XIX в. - Известия Иркутского государственного университета. Сер. Политология. Религиоведение. № 1(8). С. 159165.