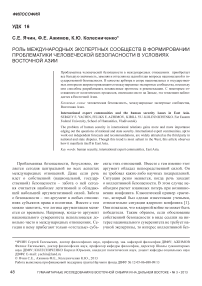Роль международных экспертных сообществ в формировании проблематики человеческой безопасности в условиях Восточной Азии
Автор: Ячин С.Е., Ажимов Ф.Е., Колесниченко К.Ю.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (23), 2013 года.
Бесплатный доступ
Проблематика человеческой безопасности в международных отношениях приобретает все большую значимость, заменяя и оттесняя на задний план вопросы национальной и государственной безопасности. В качестве арбитра в споре национальных и государственных интересов широко привлекаются международные экспертные сообщества, поскольку они способны разрабатывать независимые прогнозы и рекомендации. С некоторым отставанием от политических процессов, имеющим место на Западе, эта тенденция наблюдается в Восточной Азии.
Человеческая безопасность, международные экспертные сообщества, восточная азия
Короткий адрес: https://sciup.org/170175408
IDR: 170175408 | УДК: 16
Текст научной статьи Роль международных экспертных сообществ в формировании проблематики человеческой безопасности в условиях Восточной Азии
Проблематика безопасности, безусловно, является сегодня центральной во всех аспектах международных отношений. Даже если речь идет о собственной (национальной, государственной) безопасности – забота о ней сегодня считается наиболее легитимной и обладающей набольшей аргументативной силой. Забота о безопасности – это аргумент в любых отношениях субъектов права и политики. Вместе с тем можно заметить, что логика аргументации меняется со временем. Например, когда-то аргумент национального суверенитета использовался довольно часто в международных отношениях. Сегодня к нему прибегают только «отсталые» субъ- екты этих отношений. Вместе с тем именно этот аргумент обладал непосредственной силой. Он не требовал каких-либо научных подкреплений. Ситуация резко меняется, когда речь заходит о коллективной безопасности. В этом случае необходим расчет взаимных потерь при возникновении конфликта. Классический пример «расчета», который был сделан известными учеными, относительно ситуации ядерного конфликта [1]. Они показали, что в ядерной войне не может быть победителя. Таким образом, если обоснование собственной безопасности в виде ссылки на интерес национального суверенитета не требует научной экспертизы, то интерес коллективной без- опасности в обязательном порядке предполагает т. н. расчет согласия». И в этом случае без ученых, специалистов по предмету спора (распределения спорного ресурса) не обойтись. В этом пункте и возникает неизбежный диалог политиков и ученых. Стоит заметить, что функция юристов (специалистов по международному праву), которые всегда использовались в международных делах, не является собственно «научной» в том же смысле, какой является компетенции физиков, экологов, психологов и т. д. В международных делах юрист это выражение политического, а не научного дискурса. Роль ученых-экспертов еще более возрастает, когда предметом международных отношений становится человеческая безопасность. Дело в том, что все виды природных ресурсов так или иначе или преимущественно привязаны к государственным границам и как таковые подпадают под действие аргумента от суверенитета. Поэтому роль научных рекомендаций всегда разбивается о право субъекта распоря-жаеться своими национальными ресурсами. Другое дело человеческие ресурсы. Сегодня государство в значительной степени ограничено в своем праве на распоряжение этим «ресурсом». Человек в значительной степени стал рассматриваться как независимая переменная, требующая независимого и объективного рассмотрения. Чем меньше власть отдельного государства над человеком, тем большее значении приобретают рекомендации ученых-экспертов, как следует распоряжаться человеческим капиталом. Оказалось, что забота о человеческой безопасности, вне зависимости места пребывания человека, способна интегрировать данные многих (если не всех) наук. Но это в перспективе. На сегодняшний день проблематика человеческой безопасности еще пребывает в основном лоне политического дискурса и его риторики.
Следует ожидать, что в ближайшей перспективе проблематика безопасности человека займет весомое место в деятельности экспертных групп и эпистемических сообществ при международных организациях АТР (прежде всего АТЭС), которого сейчас она пока не имеет.
Прогноз базируется на следующей предпосылке – все интеграционные процессы, а международное научно-технологическое сотрудничество является одним из них, в Восточной Азии идут с опозданием относительно Европы и ее сопредельных стран. Для Восточной Азии передаточной зоной является Северная Америка. США и Канада – в большей мере принадлежат Западному миру, но в то же время оказывают влияние на интеграционные процессы в Азии. Исходя из того фактического положения вещей, которое складывается в Европе и Северной Америке относительно наиболее актуальной проблематики эпистемических сообществ, и ожидая, что в перспективе она станет преобладающей в работе эпистемических сообществ АТР, мы можем сделать вывод о том, что экспертная тематика будет сосредоточена на вопросах, связанных с человеческой безопасностью (human security).
Особо следует обратить внимание на феномен становления международных эпистемиче-ских (экспертных) сообществ как выражения власти знания в современном мире, поскольку через работу этих сообществ научное знание оказывает наиболее сильное влияние на процесс принятия политических решений. Эпистемические сообщества (принятое международное именование: epistemic communities) это такие проектно-ориентированные сетевые сообщества специалистов разного профиля (a network of knowledge-based experts or groups), которые объединены не только общей сферой познавательной деятельности, но и общими ценностями, что позволяет им оказывать влияние на принятие решений международными организациями, промышленными корпорациями и правительствами в инновационно-технологической, экономической, политической и культурной сферах [2]. Главное отличие этих сообществ от обычных экспертных групп и национальных центров стратегических разработок состоит в том, что это самоорганизующиеся сообщества, в рамках которых специалисты стремятся вывести свое коллективное знание (и свое понимание должного) на уровень общезначимых (в основном политических) решений [3]. Мы можем наблюдать изменение тематики работы международных экспертных групп и эпистемических сообществ. Как правило, экспертная постановка проблем международного сотрудничества с некоторым опережением возникает в Европейской зоне и после этого переносится в АТР. Такое запаздывание понятно, поскольку Европа являет миру пример опережающих интеграционных процессов и ближе сталкивается с возникающими здесь затруднениями.
Тема человеческой безопасности по вполне понятным причинам возникла в зоне контакта Европы и Ближнего Востока и связана преимущественно с ростом организованного насилия, но постепенно включила в себя и остальные аспекты безопасности: экономической, экологической, политической, гендерной и пр. В Европе проблема стала обсуждаться со средины 90-х годов. Отправным пунктом считается доклад ООН 1994 г. о человеческом развитии, где аспект безопасности жизни был выдвинут в качестве одного из показателей Индекса человеческого развития . А в Восточной Азии инициатором постановки проблем безопасности стала Япония, которая во многих двусторонних встречах, а также на ряде международных конференций, стала выдвигать на обсуждение этот аспект международных отношений [6].
Япония играет активную роль в обеспечении безопасности человека после окончания холодной войны в Юго-Восточной Азии. Широкие рамки человеческой безопасности, которая включает в себя установление мира, постконфликтного миростроительства, а также отправка войск для оказания гуманитарной помощи в Юго-Восточной Азии Японии позволяют не только играть более активную политическую роль, но и избежать упреков за усиление своей военной мощи со стороны внутренних и международных критиков.
Помимо Японии существенный рост интереса к проблемам человеческой безопасности отмечен в Республике Корея, особенно с начала 2000-х годов.
Так или иначе, но во всех случаях проблематика человеческой безопасности была специфическим отражением политических интересов упомянутых государств, стремящихся к переосмыслению собственной роли в региональных политических и экономических процессах. Человеческая безопасность является своего рода «свободной нишей», позволяющей занять лидирующие позиции в сфере человеческой безопасности, что дает возможность принимать активное участие в выработке общих концептуальных подходов, базовых принципов и целей, программ и механизмов их конкретной реализации на региональном уровне.
Определенный интерес к этому вопросу отмечается и в КНР, хотя и в несколько иных формах по сравнению с Японией и Южной Кореей – здесь этот интерес проявляется на уровне анализа роли и возможностей проблематики человеческой безопасности.
На уровне межгосударственных организаций официальную позицию в этом вопросе заняла АСЕАН: с 2008 г. в этой международной организации работает комиссия по правам че-ловека1.
Но собственно научный интерес к теме международной безопастности явно проявляется только с средины 2000-х годов и до сих пор не стал устойчивой темой международных научных конференций в Восточной Азии и тем более прямо не вошел в исследовательскую (проектную) тематику рабочих органов международных организаций. Проблематика human security (HS) преим у ществе н но обсуждается на уровне политических деклараций, без достаточного научного сопровождения. Именно разрыв между нарастающей политической активностью в продвижении прин ципов HS в международных отношениях
1 Шестое совещание Межправительственной комиссия АСЕАН по правам человека (AICHR) состоялось 28 июня – 2 июля 2011 г. в Вьентьяне, Лаос. Это совещание было третьим совещанием AICHR в 2011 г. В соответствии с его назначением, AICHR поручена разработка Декларации АСЕАН по правам человека. Редакционная группа прияла во внимание ценности и принципы в Устава АСЕАН, а также международных документов по правам человека, включая Всеобщую декларацию прав человека. AICHR также встретились и обменялись мнениями с представителями Программы развития ООН (ПРООН), Управления Верховного комиссара по правам человека, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Рабочей группы АСЕАН по механизму по правам человека на их сотрудничество. Совещание Седьмой Межправительственной комиссии АСЕАН по правам человека состоится 27 ноября–1 декабря 2011 г.
и их недостаточным научным сопровождением является, с одной стороны, главным сдерживающим фактором в установлении регионального режима безопасности такого рода, а с другой – позволят прогнозировать, что на этой области будет в основном сосредоточено внимание эпистемических сообществ. Причем этот разрыв имеет вполне конкретный смысл. До тех пор пока международные соглашения, соответствующая им теория международного права и правовая база будут базироваться на тех принципах, которые были установлены в результате Вестфальского мира (1648 г.), на принципах, которые в силу своего образования исповедуют политики и международные юристы (лица, вырабатывающие и принимающие решения), до тех пор их союз с современными научными исследованиями не будет достигнут. На сегодняшний день реальная политика в международных отношениях мало проницаема для научных фактов и современных теорий.
Десятилетнее отставание интеграционных процессов для Восточной Азии от Запада является нормой. Но в этом случае для отставания есть особые причины. Проблематика human security (HS) тесно связана с ведущей идеологемой и политическим принципом западного мира – с правами человека. Но эта идеологема не является органичной для коллективистского восточного мира. Данное обстоятельство оказывает и будет оказывать тормозящее влияние на развитие и расширение проблематики HS в эпи-стемическом пространстве стран Восточной Азии. Тем не менее мы считаем, что движение будет происходить именно в этом направлении, и именно в эту область будут продвигать свои знания политики и свои идеи ученые-эксперты самых разных областей и в рамках неправительственных организаций. Укажем на основные причины этой тенденции.
Первая причина состоит в том, что идея human security является новой парадигмой сотрудничества стран, культур и народов, парадигмой во многом альтернативной, а по существу комплементарной ныне господствующей идеологеме национальной безопасности . Сторонники HS вполне сознательно выдвигают эту идею в качестве вызова традиционному понятию национальной безопасности, утверждая, что надлежащим референтом безопасности должно быть лицо, а не государство. Принципы национальной безопасности все более обнаруживают своювнутреннюю противоречивость, поскольку в самой постановке темы обсуждения заложен конфликт интересов. Конфликт объективно задан тем обстоятельством, что государства – это ресурсные образования. Их жизнеспособность
(экономическая и политическая устойчивость) базируется на доступе к соответствующим ресурсам. Национальная безопасность как проблематика международных отношений основана на двусмысленных компромиссах. Ярким свидетельством этого являются договоренности за контролем вооружений и предотвращение вооруженных конфликтов с одновременной конкуренцией на международном рынке вооружений. Близкие проблемы возникают при любом обсуждении распределения ограниченных природных ресурсов между государствами. Мы обратили внимание на то, что текущая проблематика конференций и рабочих встреч экспертных групп при международных организациях региона в основном работает в этой «ресурсной» логике.
Принципы HS имеют другую логику. Человеческая безопасность почти во всех ее аспектах действительно является общей и неделимой между государствами. При этом каждое правительство способно сделать свой вклад в эту общую задачу. Таким образом, логика HS основана не на принципе распределения ресурсов, а на принципе вклада в общее дело. В итоге оказывается, что многие ресурсные проблемы (например, в области морских биоресурсов) лучше решаются в логике вклада, а не в логике распределения этих ресурсов. Это вывод, к которому вынуждены прийти сами правительства. Принципы HS и вклада становятся фундирующими для национальной, региональной и глобальной стабильности.
Вторая причина состоит в том, что Восточная Азия неизбежно будет догонять (а затем перегонять) западный мир в области прав человека. Необходимость движения в этом направлении связана с фактором «человеческих ресурсов» (human development) как ведущего для экономического развития любой страны. Система современного научного образования и требования личностного знания в науке, рост международной академической мобильности и запрос инновационной экономики на творческий потенциал личности не оставляют восточным странам выбора в плане признания прав и свобод человека. Но мы ожидаем, что простого следования и повторения западных норм все же не произойдет. В плане ис- пользования принципов human development и развития творческого потенциала личности мощным ресурсом станет именно коллективистские культурные традиции восточных народов. Современная методология решения творческих задач базируется не на индивидуалистических началах, но в первую очередь использует эффекты коллективной мыследея-тельности и в этом отношении оказывается ближе к существу личности в ее исходном (во многом уже утраченном) западном понимании [2]. Принципы HS достаточно близки восточным (конфуцианским) идеалам гармоничного сосуществования и фактически продолжают и развивают принципы коллективной безопасности.
Третья причина связана с тем, что проблематика HS , принципиально лучше отвечает требованиям системности и междисциплинарности решения любой другой проблемы, которая может подниматься на уровне международных отношений. Слабость, а часто и тупиковый характер многих рекомендаций международных экспертов по «отраслевой» проблеме, вызваны тем, что проблема не может быть решена сама по себе. Например, задачи в области продовольствия, здравоохранения, туризма, развития бизнеса, инвестиционного климата и др. видятся более системно, если на них смотреть с точки зрения принципов HS. По аналогии с принципом решения даже национальных (корпоративных) проблем, часто именуемым global vision , сами глобальные проблемы требуют human security vision. Вопросы, которые поднимаются в дискуссиях, фактически охватывают всю традиционную проблематику международных эпистемических сообществ.
В эволюции проблематики HS наблюдается та же закономерность, что и со всеми эписте-мическим сообществами. Происходит перехват инициативы со стороны ключевых глобальных институтов развития, например таких, как Всемирный банк, а также правительственных организаций. В источниках отмечается, что относительно 1994 г. концепция претерпела значительные изменения с тем, чтобы соответствовать организационным возможностям этих институтов. Так, правительства используют угрозу терроризма как основание укрепления государственно аппарата, т. е. придают борьбе с этой угрозой вид заботы о национальной безопасности.
Встреча политики и науки в сфере проблематики человеческой безопасности неизбежна, вопрос лишь в том, на каких условиях она произойдет.
Список литературы Роль международных экспертных сообществ в формировании проблематики человеческой безопасности в условиях Восточной Азии
- Кузнецов А.М. Безопасность человека//Ойкумена. 2011. № 2. С. 52-62.
- Ячин С.Е. Состояние метакультуры: монография. Владивосток: Дальнаука, 2010. 268 с.
- Adler, E., Haas, P.M. The Emergence of Cooperation: National Epistemic Communities and the International Evolution of the Idea of Nuclear Arms Control/International Organization, Vol. 46, No. 1, «Knowledge, Power, and International Policy Coordination» (Winter, 1992) MIT Press Stable, 1992. P. 101-145.
- Haas, P. M. Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination/International Organization, Vol. 46, No. 1, «Knowledge, Power, and International Policy Coordination» (Winter, 1992) MIT Press Stable, 1992. Р. 1-35.
- Yachin Sergey E., Zaychik Nadezda V., Smirnova Marianna Y. Role of Epistemic Communities in the Modern World and Specific Features of their Forming in the Asia-Pacific//Pacific science review. 2010. Vol.12, No.3. P. 285-289.
- Yamanoto T. Human Security -From Concept to Action: A Challenge for Japan. Proceedings of the International Conference Human Security in East Asia. Korean National Commission for UNESCO. Ilmin International Relations Institute of Korean University. 2004. P. 3-21.