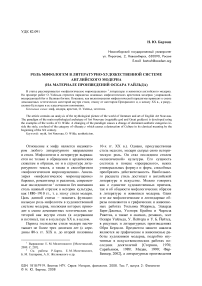Роль мифологем в литературно-художественной системе английского модерна (на материале произведений Оскара Уайльда)
Автор: Бартош Н.Ю.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается «мифологическое мироощущение» 1 литературы и живописи английского модерна. На примере работ О. Уайльда строится парадигма основных мифологических архетипов модерна: умирающий-воскресающий бог и Великая богиня. Показано, как видоизменения мифологической парадигмы приводят к смене доминантных эстетических категорий внутри стиля, отказу от категории Прекрасного и, к началу ХХ в., к разрушению Культуры в ее классическом понимании.
Миф, модерн, архетип, о. уайльд, эстетизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14736955
IDR: 14736955 | УДК: 82.091
Текст научной статьи Роль мифологем в литературно-художественной системе английского модерна (на материале произведений Оскара Уайльда)
1 Отношение к мифу является индикатором любого литературного направления и стиля. Мифологизм в литературе выражается не только в обращении к архаическим сюжетам и образам, но и в структуре литературного текста, а также в своеобразном «мифологическом мироощущении». Анализируя «мифологическое мироощущение» барокко, романтизма и реализма, современные исследователи 2 оставили без внимания столь важный отрезок в истории культуры, как 1880–1910 гг., т. е. эпоху стиля модерн. Цель данной статьи – показать функциональную роль мифологем в художественной системе модерна, эволюция которых приводит к смене доминантных эстетических категорий как внутри стиля (в содержании и поэтике), так и в культуре XX в. в целом.
Период господства стиля модерн насчитывает не более трех десятков лет (с середины 80-х гг. XIX в. до второй половины
10-х гг. XX в.). Однако, просуществовав столь недолго, модерн сыграл свою историческую роль. Он стал последним стилем «классической» культуры. Его сущность состояла в поиске «прекрасного», неких универсальных формул и форм, способных преобразить действительность. Наибольшего расцвета стиль достигает в английской литературе и искусстве. Можно говорить как о единстве художественных приемов, так и об общности мифологических образов в литературе и живописи модерна. Одни и те же мифологические и легендарные образы появляются в графических и живописных работах Уильяма Морриса, Эдварда Берн-Джонса, Уолтера Крайна и Чарльза Рикетса, а также в сказках, романах, эссе Оскара Уайльда, У. Пейтера и У. Б. Йейтса, в рисунках и литературных произведениях Обри Бердсли. Предметом нашего анализа являются не графические и живописные работы художников модерна, подробно изученные в искусствоведческих работах последних десятилетий [Стернин, 1970; Сарабьянов, 1989; Мидан, 1999; Фар-Беккер, 2002], а литературные произведения
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 2: Филология © Н. Ю. Бартош, 2008
модерна. Анализируя функциональную роль мифологем в английском модерне, мы считаем целесообразным обратиться к творчеству английского писателя и критика Оскара Уайльда, поскольку в его произведениях литература модерна получает наиболее целостное законченное развитие.
В своем взгляде на миф модерн отличается от индексно-аллегорических мифологических образов в литературе и живописи классицизма, от «имплицитного» и «редуцированного» мифологизма реализма и даже от художественно-мистического мифотворчества романтиков. Своеобразие взглядов на миф английского модерна объясняется влиянием философско-эстетических идей Рихарда Вагнера и Фридриха Ницше, а также творческими поисками теоретиков английского эстетизма 3 50–70-х гг. XIX столетия.
В теоретических работах Р. Вагнера (см., например: [Вагнер, 1978]) миф предстает как фундамент, или скелет, любого творчества, где поэтические средства и художественные, философские, социальные и прочие смыслы выступают, подобно плоти, обрастающей мифологический остов. По мнению Р. Вагнера, мифологическая основа является определяющим звеном в ментальной самоидентификации нации. Так же, как и Вагнер, его друг и ученик Фридрих Ницше считал, что миф – это лоно, из которого растет и «окормляется» национальная культура. «Образы мифа – <…> незаметные, вездесущие демонические стражи» [Ницше, 2001. С. 202], воспитывающие читателя или зрителя, существуют в эстетической сфере. Предпочтения Ницше определили круг мифологических тем и образов у последовавших за ним писателей и художников модерна. Прежде всего, это «праисконное» стихийное вакхическое начало, воплотившееся в растительных мифах, связанных с образами умирающего-воскресающего бога (Диониса, Осириса, Балу, Адониса и др.), символизирующего вечное возрождение, а также в мифах, посвященных Великой богине (трехликой владычице судьбы, жизни и смерти) .
Иной принцип подхода к мифологизму, оказавший влияние на английский модерн, принадлежит теоретикам и творцам эстетизма. Начиная с Джона Рескина [Рескин, 2006], они использовали мифологические и легендарные образы как готовые формы для передачи нюансов психологических и социальных портретов героев, созданных ими по принципу реалистического мимезиса. Для эстетизма миф – внешнее маскарадное переодевание, маска, а не глубинное основание бытия. Этим обусловлена тема театральности, перевоплощений героев, смена обликов и переполняющая тексты и полотна модерна система двойников и отражений, а также бесконечная череда литературных намеков, отсылок и скрытых или явных цитат.
Первым появлением стиля модерн в литературе считается статья О. Уайльда «Ренессанс в английском искусстве» (1881 г.), воспринятая современниками как своеобразный эстетический манифест 4. Основная тема статьи – духовное возрождение английского искусства, представленное автором как «“новый английский Ренессанс” <…> со страстным культом чистой красоты, с безупречной преданностью форме, – такой исключительно чувственный!» [Уайльд, 2000. Т. 3. С. 257]. Автор персонифицирует саму идею английского Ренессанса, представляя его как развитие живого организма: «Сызнова рождается человеческий дух, и в нем <…> просыпается жажда более нарядной, изысканной жизни, страсть к физической красоте, всепоглощающее внимание к форме, он начинает искать новые сюжеты для поэзии, новые формы для искусства, новые услады для ума и воображения» [Там же] (курсив наш. – Н. Б.). Для персонификации Ренессанса О. Уайльд использует гетевский образ Эвфориона, сына Фауста и Елены Троянской, соединившего в себе эллинскую гармонию формы со «страстной романтичностью духа» отца [Там же С. 258]. Образ Эвфориона создается Гете, а вслед за ним и О. Уайльдом, на основе мифологемы растительного божества (Адониса, Аттиса, Гиацинта и др.), судьба которого (смерть и воскресение в флористическом облике) входит в парадигму дионисийских мистерий, а его красота счи- тается эталоном в античной культуре. В нем репродуцируется ритуально-мифологический мотив умирающего-воскресающего бога. В европейской традиции он реализуется в образе прекрасного юноши. Этот образ становится идеальной формой для утверждения идеи божественной красоты и эталоном воплощения красоты видимого мира. Уже в диалогах Платона прекрасный юноша выступает в качестве некоего символа – эй-доса, напоминающего душе о существовании мира идеальных сущностей, а также указывающего путь духовного становления: «<…> когда кто-нибудь смотрит на здешнюю красоту, припоминая красоту истинную, он окрыляется, а окрылившись, стремится взлететь» [Платон, 1993. С. 143].
Несмотря на аллегоричность фигуры Эв-фориона как в трагедии Гете 5, так и в тексте статьи, можно говорить о нем как о первом появлении образа прекрасного юноши в произведениях Уайльда.
В дальнейшем герой его новеллы «Портрет господина У. Х.» (1887) [Wilde, 2000; Уайльд, 2000], некий мистер Эрскин, создает образ fair boy 6 – прекрасного юноши – Уильяма Хьюза 7, «того единственного, кому обязаны появлением <…> сонеты» Шекспира. Писатель уподобляет прекрасного юношу Дионису, «богу плодоносящих сил земли», который «освобождает людей от мирских забот, снимает с них путы размеренного быта» [Мифы, 1994. Т. 1. С. 380], а кроме того олицетворяет «обновляющийся мир в постоянной череде сезонов года» [Там же. Т. 2. С. 547]. Сходству героя с мифологемой умирающего-воскресающего бога способствует присутствующая в тексте дионисийская система кодов раннего модерна: образы повторяющегося, замкнутого цикла бытия как символа вечного возрождения (растительные образы – виноградная лоза, цветы розы, нарцисса, наравне с ними произведения искусства – пьесы и сонеты Шекспира). Мифологема умирающего-воскреса- ющего бога реализуется, прежде всего, в парадигме преображений прекрасного юноши – от музыканта графа Эссекса до актеров, вдохновлявших Гете и Фридриха Шредера. Цепь воображаемых метаморфоз нужна Уайльду для того, чтобы показать бессмертие Прекрасного, являющегося каждый раз под новой маской, но не меняющего свою сущность. Воображаемая смерть Хьюза от рук взбунтовавшейся черни подобна смерти сына Семелы от рук «черни»-титанов, а «возрождение» его духа в «пурпуре и багрянце пенной влаги», а затем и в облике Сирила Грэхема – еще одна проекция на судьбу Диониса 8.
Образы Уильяма Хьюза и его двойника Сирила Грэхема создаются на основе растительных метафор, переходящих из шекспировских сонетов в текст новеллы. В контексте мифологемы умирающего-воскресающего бога они обрастают дополнительными смыслами . Метафора розы, первоначально появляющаяся в отрывке 67-го сонета («his rose is true»), введенного писателем в текст новеллы, чтобы подчеркнуть истинную сущность красоты прекрасного юноши , а затем переходящая на облик его викторианского двойника («rose-red lips» 9) [Wilde, 2000. Р. 135]. Эта метафора заключает семантику не только прекрасного цветка, но возрождения, преодоления смерти («the rose of the whole world») 10.
Мифологема умирающего-воскресающего бога в образе прекрасного юноши, рассмотренная нами на примере новеллы «Портрет г-на У. Х.», присутствует во всех произведениях О. Уайльда. Прекрасный юноша может исполнять роль главного героя или появиться на втором плане, однако его фигура неизменно преображает все повествование. Писатель блестяще справляется с метаморфозами образа внутри различных жанров (от сказки, новеллы, романа до социальной комедии, эссе и даже исповеди), остроумно реорганизуя его мифологическую атрибутику по законам жанра 11. Анализ данного образа в произведениях О. Уайльда, позволяет отнести харизму прекрасного юноши к дионисийской стихии мифа.
В романе «Портрет Дориана Грея» (1891) данная мифологема реализуется через миф об Адонисе, возлюбленном богини Венеры. Главный идеолог романа лорд Генри сравнивает Дориана с «юным Адонисом, словно созданным из слоновой кости и розовых лепестков» [Уайльд, 2000. Т. 1. С. 27]. Для Уайльда это сравнение не только отсылка к мифологическим корням образа героя, но и возможность эстетической игры с реалиями культуры, так как содержит аллюзию на раннюю поэму Шекспира «Венера и Адонис». Цветок с белыми и алыми пятнами, в который превращается в поэме кровь Адониса, является ключевой метафорой в раскрытии образа прекрасного юноши, как в творчестве Шекспира, так и в романе Уайльда. В символике сада, цветка писатель-эстет предлагает рассматривать образ созданного им юноши, отсылая просвещенного читателя и к сонетам Шекспира ( fair flower, 69-й сонет). В сознании лорда Генри Адонис – не просто герой греческого мифа, а в контексте эстетики Возрождения аллегория бренной, проходящей, ускользающей красоты.
Почти во всех произведениях О. Уайльда рядом с образом прекрасного юноши находится герой-парадоксалист. В романе эту роль выполняет лорд Генри. Он является тайным творцом души Дориана. Сцена в саду, в которой Генри Уотсон проповедует Дориану теорию красоты и наслаждения, подобна сцене оживления статуи в мифе о Пигмалионе: «Он смутно сознавал, что в нем просыпаются какие-то совсем новые мысли и чувства. <…> Жизнь вдруг засверкала перед ним всеми своими красками» [Там же. С. 42]. Основной инструмент, с помощью которого лорд Генри «созидает» юношу, – слово. Но это же слово, только ироническое, разрушающее границы смыслов и моральных норм, является той «отравой», которой лорд Генри и губит юношу. Об опасности взаимодействия прекрасного юноши и героя-парадоксалиста, переворачивающего все с ног на голову, обнажающего скрытые смыслы обыденного сознания, тем самым расшатывающего космические структуры социума, предупреждают так называемые «герои-обыватели» Уайльда: Бэй-зил Холлуорд и Джон Вэйн.
Во взаимоотношениях Бэйзила Холлуорда, Дориана и лорда Генри иронически повторяется любовный треугольник сонетов: Поэт – Прекрасный юноша – Смуглая леди (Dark Lady). В сонетах Шекспира Смуглая леди осуществляет функции Великой богини, дарующей возлюбленному как любовь, так и гибель. К этой же мифологеме сводится и образ героя-парадоксалиста лорда Генри 12, в котором созидающая функция сочетается с роковым, темным началом, ведущим прекрасное к гибели. Обвинения Дориана, предъявленные лорду Генри: «Вы <…> отравили меня» [Там же. С. 238], воспринимаются в контексте ритуальномифологического жертвоприношения Великой богине.
В раннем модерне мифологема Великой богини находилась на периферии художественного сознания. Однако со сменой эстетических установок в литературе и искусстве происходит и смена доминантных мифологем. Великая богиня [Грейвс, 1999; Элиаде, 1999; Neumann, 1963] – Мать всего сущего – становится новой всеобъемлющей мифологемой. На гигантском индоевропейском пространстве она считалась символом плодородия и процветания, ей поклонялись как богине чувственного наслаждения и эротизма, и она же несла смерть обрученному с ней царю-танисту 13 или влюбленному в нее растительному юноше-богу. В архаической культуре Великая богиня отвечала за созидание и вскармливание. Со временем к функциям рождения и питания в образе Великой Матери присоединяется эротическая функция, а также функции уничтожения или смерти. Они получают воплощение в трех ипостасях Великой богини: деве (символизирующей Прекрасное), матери (дающей Жизнь) и старухе (несущей Смерть). Некогда единый образ становится трехликим и реализуется в образах трех богинь судьбы (мойр, парок, норн), которые пряли, созидали и, наконец, обрезали нить человеческой жизни. В этих образах заключалась символика слепых, стихийных сил, не подвластных человеческому разуму.
Однако Великая богиня была «связана не только с дикостью (хаосом), но и с культурой (космосом)» [Мифы, 1994. Т. 1. С. 180]. В шутовстве парадоксалиста, как и в деяниях Великой богини, соединялись хаос и космос, стремление к творчеству и разрушению через ироническое восприятие бытия. Постоянное присутствие образа парадоксалиста в произведениях Уайльда приводит к тому, что в начале 1890-х гг. архетип Великой богини вытесняет мифологему умирающего-воскресающего бога на второй план. Впервые это происходит в сказке «День рождения Инфанты» из сборника «Гранатовый домик» (1891), в которой данная мифологема воплощается не в образе прекрасного юноши , а уже в виде «фантастического уродца», маленького Карлика, пойманного в Лесу.
В мифах карлики считаются символами сакральных сил, приносящих земле благодать плодородия. В парадигму дионисийских «возрождающихся» героев Карлика вводит не внешность, а принадлежность к первоматерии природы, стремление к растительному (дионисийскому) миру.
Если в ранних сказках, новеллах и романе Уайльда аллегорией прекрасного юноши был Сад 14 [Ковалева, 2002; Бартош, 2003], то аллегорией маленького Карлика становится Лес. Будучи вольной растительной стихией, в мифах Лес выполняет функцию «первозданного хаоса материи» [Мифы, 1994. Т. 2. С. 50], в европейской литературе и живописи мифологема леса преобразуется в метафору «леса души» 15 в ее вегетатив- ном, чувственно-эротическом состоянии, черпающей силу в дионисийских мистериях. Дворцовое празднество, состоящее из «шуточных» ритуальных действий, и танец Карлика создают ощущение мистерии, в центре которой Карлик является в роли божества плодоносящих сил земли. Делая маленького уродца главным персонажем сказки, писатель-эстет доказывает читателю, что духовно-чувственное наслаждение необязательно искать только в стандартных образцах Красоты.
Карлик является эманацией умирающего-воскресающего бога, а роль Великой богини в сказке исполняет Инфанта. Их отношения укладываются в схему «священной свадьбы» Великой богини и царя-жреца. Первоначально «прелестная Инфанта» выступает как внешний двойник fair-boy : волосы «цвета бледного золота» и огромные голубые глаза. Однако писатель не наделяет Инфанту ни одной флористической метафорой, тем самым отказывая ей в функциональном двойничестве с растительным умирающим-воскресающим богом. Единственный цветок, связанный с ее образом, – белая Роза – переходит Карлику; заключенная в розе символика возрождения и посвящения в таинство растительного божества дает Карлику духовное превосходство над Инфантой.
Своеобразным двойником Инфанты в тексте становится Зеркало 16, беспощадно поведавшее маленькому Карлику о его уродстве и тем самым убившее его. Кроме того, персонификацией темной сущности Инфанты становится ее мать – мертвая Королева. Нетленное тело Королевы покоится в склепе и в контексте сказки воспринимается как аллегория Смерти или одно из воплощений богини-Луны, исчезающей с ночного неба и появляющейся уже в облике чила дополнительный смысл в поэзии романтиков: Блейка, Кольриджа, Китса. К ней не раз обращается в сонетах Данте Габриэль Россетти как к символу темных первозданных инстинктов. В произведениях О. Уайльда она создает общее образное поле эстетики модерна. «Лес души» означает бездну бессознательного, в которой кроются тайные сокровища, не принадлежащие земному миру (см. «Мальчик-звезда» и другие сказки). Кроме того, Уайльду удалось вернуть «лесной теме» архаический мифологизм хтони-ческого мира.
юной Инфанты 17. В начале сказки это сходство матери и дочери отмечает Король-отец, много лет находящийся во власти мертвой Королевы.
После 1892 г. мифологема Великой матери становится ключевой в произведениях О. Уайльда. Писатель приспосабливает ее к форме конкретного жанра. Так, в созданных им салонных комедиях героиня уже не принцесса или колдунья из его сказок, а изящная молодая леди, полная аристократического снобизма, самолюбования и социальных предрассудков. Героини пьесы «Как важно быть серьезным» заставляют своих возлюбленных не только подчиниться их представлениям о мире, но изменить имя и даже судьбу. Не менее карающую «роковую» роль играют женщины в участи сэра Роберта Чилтерна 18 и т. п . В отличие от образа прекрасного юноши , символа возрождения и творчества, в женских образах О. Уайльда, построенных на основе мифологемы Великой богини, проскальзывает ощущение суеверного ужаса и отстраненности автора. Отметим, что в образах его героинь, созданных на основе мифологемы Великой богини, полностью исчезает функция материнства, рождающего женского начала. Вслед за Уайльдом от нее откажутся все художники и писатели европейского модерна.
Наиболее полная реализация образа Великой богини происходит в самом декадентском произведении О. Уайльда – одноактной пьесе «Саломея», написанной им на французском языке в 1891–1892 гг. Еван- гельский текст (Мф. 14 : 8–11; Мк. 6 : 14–30) о танце безымянной иудейской царевны перед Иродом Антипой и последующей казни пророка Иоанна Крестителя писатель-эстет делает ярким, живым и трагическим, совмещая в нем законы греческой трагедии с ментальностью и стилистикой модерна. Уайльд наделяет героев «Саломеи» глубокой индивидуальностью, в то же время создает их по законам мифа, в рамках которого развивается действие пьесы.
В образе юной Саломеи автор показал одну из ипостасей Великой богини – Лунную, или Белую 19, богиню, отвечающую за плодородие, рост и созревание. Писатель настойчиво подчеркивает: Саломея – антропоморфное воплощение ночного светила, а луна – двойник царевны. Луна предваряет и выявляет смысл всех ее действий и помыслов.
В античной традиции Лунная богиня отождествлялась не только с Селеной, но и с Артемидой и Гекатой. С последними связана функция запрета на лицезрение богини 20, так как это обнажает истинную сущность божества, вскрывает механизмы его существования. В тексте пьесы мифологическое табу находит отражение в двойном запрете: смотреть на луну и лицезреть царевну, за что платит жизнью Молодой сириец. Подобно своему мифологическому архетипу, Саломея обладает магическим лунным эротизмом, несущим смерть и тем, кто в нее влюблен, и тем, в кого влюблена она. Иудейская царевна несет гибель героям, прочитывающимся в контексте драмы как растительное божество и его танисты – Иоканаану, отвергнувшему любовь царевны, Молодому сирийцу и всем, попавшим под власть ее чар.
Саломея-луна становится своеобразным мерилом метафорической ритмики пьесы. Она создает параллели и устанавливает сходства между различными рядами образов: библейских, античных, декадентских. Символы и метафоры, к которым Саломея прибегает для изображения пророка, повторяют описание Жениха в Песни Песней (Песн 5 : 11–16). Этот прием позволяет автору указать на истинного возлюбленного Лунной богини – Иоканаана.
В античной и кельтской мифологии с культом Лунной богини были связаны мистическая инициация ее возлюбленного, его гибель и возрождение в новой ипостаси. Однако в пьесе Уайльда в соответствии с художественной традицией модерна за смертью наступает тьма: герои лишены возможности духовного спасения и возрождения. Автору удается передать острое ощущение пропасти, поглощающей героиню и ее возлюбленных, бездны, откуда нет возврата. Этому способствует и последняя короткая режущая реплика пьесы, принадлежащая Ироду: «Kill that woman!» [Wilde, 2000. P. 560].
Саломея-луна – новый образ женщины в литературе модерна: прекрасной, поглощенной собственным Эго, слепой для внешнего мира. Захлестнувшее ее чувственное начало, льющийся, словно лунный свет, эротизм, опьяняет и лишает рассудка всех окружающих. Она подобна Горгоне – убивает всех, осмелившихся взглянуть на нее или пожелать ее. Танец Саломеи – ритуальный танец Великой богини, обнажающей тайны бытия. В нем все: сотворение мира и нарастающая энтропия вселенной, безудержная сексуальность и неотвратимая смерть 21.
В 1894 г., незадолго до суда и тюремного заключении 22, О. Уайльд печатает поэму «Сфинкс». Он писал ее почти всю свою творческую жизнь – с 1874 по 1894 г. Мифологема Великой богини возникает в образе сфинкса – «чудовища с лицом и грудью женщины, телом льва и крыльями птицы» [Мифы, 1994. Т. 2 С. 479]. В первых строфах поэмы героиня – хищная, но домашняя химера-кошка: «In a dim corner of my room <…> / A beautiful and silent Sphinx / Has watched me through the shifting gloom» [Wilde, 2000. P. 812], что соответствует и образному строю произведений 80-х гг. Во второй части, написанной в предчувствии катастрофы, в образе Сфинкса видны черты убийственного и «всесокрушающего» чудовища-времени из сонетов Шекспира «The God is scattered here and there; / Deep hidden in the windy sand <…>» [Там же. P. 818]. Героиня – владычица судеб и убийца богов, которую создает Уайльд, ощущает прибли- жение собственной гибели: «Are there not others more accursed, / Whiter with leprosies than I? / <…> False Sphinx! False Sphinx! By reedy Styx, / Old Charon, leaning on his oar, / Waits for my coin <…>»23 [Там же. P. 821].
Таким образом, в изысканных героинях литературы и искусства модерна (Оскара Уайльда, Обри Бердслея, Уильяма Батлера Йейтса и других писателей и художников) рождающее, творящее начало исчезает из архетипа Великой богини. Впервые в европейском искусстве образ женщины строится на диссонансе. Оплодотворенный холодной иронией Уайльда и Бердслея, диссонанс модерна превращает лица (без духа они лишаются отсвета божественного Лика) в бездушную маску, а женскую плоть – из сосуда «греха и искупления» в источник сексуальности и телесной чувственности. Закономерно то, к чему так стремились писатели и художники модерна, – воплощенная в женском облике чистая красота оборачивается ее истончением, а всего через несколько лет художественных поисков – красотой безобразного. Так игровая ирония модерна, уничтожающая каноны и границы, убивает и духовное основание образов Прекрасного, а духовная пустота неизбежно ведет к метаморфозе Прекрасного в Безобразное.
Соблюдая парадоксальную логику английского модерна, его доминантный архетип – древняя мифологема Великой богини – оборачивается своей изнаночной стороной: бесплодной смертоносной сущностью. Следующим шагом в культуре станет модернизм с его эстетикой безобразного, воплощенной в масках богинь «Авиньонских девиц» Пабло Пикассо.