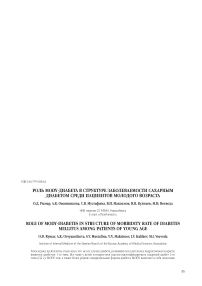Роль MODYQ диабета в структуре заболеваемости сахарным диабетом среди пациентов молодого возраста
Автор: Рымар О.Д., Овсянникова А.К., Мустафина С.В., Максимов В.Н., Куликов И.В., Воевода М.И.
Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk
Рубрика: Обзоры и лекции
Статья в выпуске: 4-2 т.26, 2011 года.
Бесплатный доступ
В последнее десятилетие стало ясно, что не все случаи диабета, развившегося в детском и подростковом возрасте, являются диабетом 1-го типа. Все чаще у детей и подростков удается идентифицировать сахарный диабет 2-го типа (СД 2), MODY тип, а также более редкие синдромальные формы диабета. MODY включает в себя несколько клинически и генетически гетерогенных подтипов. Недавние исследования изменили понимание MODY диабета. Было обнаружено, что MODY может развиться в полноценный диабет даже в возрасте 50 лет. Таким образом, проблемы дифференциальной диагностики сахарного диабета являются актуальными и в наше время.
Сахарный диабет, mody диабет, наследственность, молодые пациенты, генетические исследо вания
Короткий адрес: https://sciup.org/14919661
IDR: 14919661 | УДК: 616.379-008.64
Текст научной статьи Роль MODYQ диабета в структуре заболеваемости сахарным диабетом среди пациентов молодого возраста
In the last decade, it became apparent that not all cases of diabetes that developed during childhood and adolescence, are type 1 diabetes. Increasingly, children and adolescents can identify type 2 diabetes mellitus (DM 2), MODY type, as well as more rare syndromal forms of diabetes. MODY includes several clinically and genetically heterogeneous subtypes. Recent studies have changed the understanding of the MODY-diabetes. It was found that MODY can develop into a full-fledged diabetes, even at the age of 50 years. Thus, the problems of differential diagnosis of diabetes are relevant in our time. Key words: diabetes, MODY-diabetes, family history, younger patients, genetic research.
В настоящее время сахарный диабет (СД) вышел на третье место среди хронических заболеваний у детей [4]. Последний консенсус, принятый ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes), определяет СД как группу метаболических заболеваний, характеризующихся гипергликемией, обусловленной нарушениями секреции инсулина, действия инсулина или обеими причинами. Нарушения углеводного, жирового и белкового обмена, которые возникают при диабете, являются следствием дефицита действия инсулина на ткани-мишени [12]. До последнего времени в детском возрасте все случаи манифестации СД с жаждой, полиурией, полидипсией и потерей в весе, при наличии повышения гликемии, относили к 1-му, аутоиммунному типу диабета, который, в конечном счете, разовьется в абсолютную инсулиновую недостаточность с потребностью в инсулино-терапии. В последнее десятилетие стало очевидно, что не все случаи диабета, развившегося в детском и подростковом возрасте, являются диабетом 1-го типа [7]. Все чаще у детей и подростков удается идентифицировать сахарный диабет 2-го типа (СД 2), MODY тип, а также более редкие синдромальные формы диабета. Истинная распространенность “диабета не 1-го типа” в детском и подростковом возрасте неизвестна, предполагается, что она может достигать 10%. Это наблюдается на фоне все возрастающей распространенности СД 1-го типа (СД 1). Хотя генетические синдромы встречаются редко, все вместе они составляют приблизительно 5% среди всех детей с СД [1]. Важность диагностики этих синдромов для детей заключается в грамотной идентификации и лечении составляющих синдрома проявлений и осложнений, а для родителей – в возможности получить медико-генетическую консультацию и соответствующие рекомендации. Различия в наследственной передаче при разных синдромах могут потребовать различий в подходе к генетическому консультированию и рекомендациям [1]. Такие случаи имеют огромное научное значение, поскольку они являются природной моделью, позволяющей изучить основные механизмы развития нарушений углеводного обмена. С развитием молекулярной генетики появилась реальная возможность изучения генетических мутаций, что позволяет проводить корреляционный анализ между клиническими проявлениями и генотипом и искать новые терапевтические подходы, основанные на развивающихся знаниях о генах и функциях кодируемых ими белков. Соотношение различных неиммунных форм СД пока слабо изучено. Среди новых случаев заболевания в Великобритании в течение 13-месячного периода “диа- бет не 1-го типа” идентифицирован в 168 случаях; из них 40% – диабет 2-го типа, 22% – вторичный диабет, 10% – MODY, 10% – синдромальный диабет, и у 20% форма диабета не была установлена [10]. Важно различать эти формы заболевания и устанавливать точный диагноз, так как случаи диабета не 1-го типа отличаются в лечении и осложнениях от диабета 1-го типа. В ряде случаев имеются также определенные сложности в дифференциальной диагностике СД 1, СД 2 и MODY, а также между отдельными генетическими синдромами, ассоциированными с диабетом [6]. Современный уровень диагностических возможностей медицины позволяет правильно определить тип сахарного диабета у пациента в девяти случаях из десяти. Однако не редки ситуации, когда течение диабета отличается от принятых для 1 или 2-го типа стандартов. Как расценивать периодическое повышение уровня сахара у ребенка в диапазоне 6,2–8,0 ммоль/л, которое не прогрессирует годами и не приводит к “классическому” диабету? Как относиться к “медовому месяцу”, который длится больше двух лет? Почему у одного ребенка с диабетом 1-го типа высокая потребность в инсулине, крайне лабильное течение, несмотря на тщательный самоконтроль, у другого же доза инсулина не меняется годами, гликемия практически не контролируется, а показатели НвА1с отражают хорошую компенсацию заболевания? О подобных вещах задумывается, как минимум, 5% людей, у которых поставлен диагноз “сахарный диабет”. Ведь именно в данном проценте случаев выявляется так называемый MODY-диабет зрелого типа у молодых (Maturity-Onset Diabetes of the Young). В литературе употребляются и такие альтернативные MODY названия, как семейный диабет с доминантным типом наследования или “масонский” диабет [2]. Как заподозрить MODY? Если клиническая картина схожа с сахарным диабетом 1-го типа, нетипичными окажутся нижеописанные симптомы: отсутствие кетоацидоза (ацетона или кетоновых тел в моче) при манифестации; компенсация (HbA1 c ≤ 8%) на фоне малой потребности в инсулине; длительная (не менее 1 года) ремиссия (“медовый месяц диабета”) без периодов декомпенсации; сохранение секреторной активности β-клеток (уровень С-пептида находится в пределах нормы); отсутствие маркеров аутоиммунной реакции против β-клеток (антитела к β-клеткам, GAD, инсулину), отсутствие ассоциации с HLA. Обязательным в случае с MODY является наличие прямых родственников (отец, мать, бабушки, дедушки) с сахарным диабетом, гестационным диабетом, нарушением толерантности к углеводам, пограничной гипергликемией натощак [13].
MODY – неоднородная группа заболеваний, характеризующаяся аутосомно-доминатным типом наследования и обусловленная мутациями генов, приводящих к дисфункции β-клеток поджелудочной железы. Впервые термин “диабет зрелого типа у молодых” и аббревиатуру MODY ввели S. Fajans и R. Tattersall в 1975 г. для определения непрогрессирующего или малопрогрессирующего диабета у молодых пациентов с отягощенным семейным анамнезом [19]. MODY включает в себя несколько клинически и генетически гетерогенных подтипов. В патогенезе метаболических нарушений при MODY ведущую роль обычно отводят первичным нарушениям секреции инсулина. Американская диабетологическая ассоциация относит MODY к формам СД, обусловленным генетическими дефектами β-клеток. Однако следует учитывать, что некоторые подтипы MODY связаны с дисфункцией почек и/ или печени, а также с инсулинрезистентностью [2]. Считается, что первое упоминание в литературе одного из подтипов этого диабета (по-видимому, MODY2) принадлежит P.J. Cammidge, который еще в 1928 г. указал на то, что “доминантный тип имеет практически всегда мягкое течение, даже у больных молодого возраста, и может персистировать в течение многих лет без выраженных проявлений или значительного влияния на общее состояние здоровья”. Первые проспективые исследования, проводимые с 1960 г., показали, что гликемия у части больных MODY в течение 30 и более лет может успешно контролироваться препаратами сульфонилмочевины [2]. Выявление MODY без молекулярно-генетического исследования не всегда является простой задачей. К сожалению, путем сбора семейного анамнеза достаточно сложно установить факт аутосомно-доминантного наследования. Даже в семьях, где СД наблюдается в трех поколениях, заболевание не обязательно по своей природе является моногенным. “Псевдодоминантность” вследствие взаимодействия нескольких генов может иметь место и при по-лигенном СД 2-го типа. Однако, когда редкий фенотип СД с ранней манифестацией наблюдается не только в нескольких поколениях, но и в разных ветвях генеалогического древа, включая двоюродных и троюродных братьев и сестер, установление факта моногенности заболевания с аутосомно-доминантным типом наследования упрощается. Следует отметить, что без молекулярно-генетического анализа особенно сложно выделить MODY при отсутствии исчерпывающих сведений о родственниках или в спорадических случаях – при новых мутациях. В последние годы считается, что MODY составляет 2–5% от всех случаев СД. T.H. Lindner (1999) считает, что только в Германии с населением более 82 млн человек около 60000 лиц имеют MODY [14]. До настоящего времени малоизученным остается вопрос, касающийся частотного распределения разных подтипов MODY. Согласно анализу показателей 67 семей, проведенному во Франции, в 63% случаев у больных имеется MODY2 и в 21% случаев – MODY3. В 16% случаев MODY был обусловлен мутацией в неизвестном локусе или локусах. В центральной Италии MODY2 выявлен у 25%, а MODY3 – у 15% больных. T.M. Frayling и соавт. выявили MODY2 у 11%, а MODY3 у 73% английских детей [9]. Полученные результаты, безусловно, отражают особенности сбора семейного матери- ала, а также различия в генетическом фоне популяций. Клиническая гетерогенность MODY была очевидной уже с первых публикаций [3]. Вопрос генетической гетерогенности в большой степени был решен с прояснения генетической основы заболевания. Первый ген MODY (мутация гена глюкокиназы) был идентифицирован в 1992 г. К настоящему времени известно 9 генов, мутации в которых приводят к развитию MODY [11]. Эти гены кодируют глюкокиназу, которая катализирует фосфорилирование глюкозы – первую реакцию ее метаболизма на пути образования АТФ [16], 5 факторов транскрипции (ядерный фактор гепатоцитов – (HNF)-1α, HNF-1β, HNF-4α, фактор-1 регуляции промотора гена инсулина (IPF-1) и фактор нейрогенной дифференцировки-1 (NEURO-D1)). Факторы транскрипции – это белки, которые связываются с промоторными регионами в генах и активизируют транскрипцию в транспортной РНК. Они инициируют продукцию белков, которые являются важными в развитии поджелудочной железы. Каждый генотип производит уникальный фенотип [9]. В Великобритании, Норвегии, Германии, а также в некоторых азиатских странах наиболее часто встречается мутация HNF-1α (HNF-1α; MODY-3), составляя более 60% всех случаев MODY. Мутации в гене глюкокиназы (MODY-2) имеют наибольшую распространенность в Италии и Франции [17]. На долю остальных известных генов приходится менее 10%. У 15% пациентов с MODY мутации не идентифицированы и отнесены к MODY-X. Недавние исследования изменили понимание MODY-диабета. Было обнаружено, что MODY может развиться в полноценный диабет даже в возрасте 50 лет. У пациентов, имеющих мутантные гены по MODY-диабету, в 65% СД развивался в возрасте до 25 лет и в 100% – в возрасте 50 лет. Также было обнаружено, что при наследовании не одного, а двух генов с мутациями по MODY-диабету (т.е. от двух родителей), заболевание имеет тяжелое течение, идентичное СД 1-го типа [18]. Рассмотрим более подробно подтипы MODY-диабета, так как все они имеют разные клинические проявления. В 1997 г. было установлено, что MODY1 обусловлен мутациями гена, кодирующего ядерный фак-тор-4α гепатоцитов. Этот фактор относится к надсемейству стероидных/тиреоидных рецепторов и является регулятором экспрессии ядерного фактора-1α гепатоцитов. Предполагают, что ядерный фактор-4α гепатоцитов оказывает опосредованное влияние на функцию β-клеток, изменяя экспрессию ядерного фактора-1α гепатоцитов. Ядерный фактор-4α гепатоцитов экспрессируется в печени, почках, кишечнике и островках поджелудочной железы [2]. MODY 1 отличается более высоким почечным порогом для глюкозы и более поздней манифестацией. Пациенты чувствительны к препаратам сульфонилмоче-вины [5].
MODY2 (мутации гена глюкокиназы). Первыми выявленными генетическими дефектами (1992) при СД оказались мутации гена глюкокиназы – фермента, который вовлечен в метаболизм глюкозы [15]. К настоящему времени описано более 150 различных мутаций. Глюкокиназа относится к ферментам семейства гексокиназ. Она катализирует процесс фосфорилирования глюкозо-6-фосфата, т.е. первую реакцию метаболизма глюкозы, при- водящую к образованию АТФ через процессы гликолиза. У человека ген глюкокиназы расположен на коротком плече 7-й хромосомы и имеет сложную структуру, включающую 12 экзонов. Большинство описанных мутаций расположено в 7 и 8-м экзонах. Глюкокиназа экспрессируется в β-клетках, гепатоцитах и в определенных зонах костей. Экспрессия кодирующего ее гена контролируется двумя специфическими промоторами. В отличие от других гексокиназ, глюкокиназа имеет низкое сродство к глюкозе и не ингибируется ее продуктом – глюкозо-6-фосфатом [2]. Благодаря этим уникальным свойствам, скорость фосфорилирования глюкозы в β-клетках и гепатоцитах пропорциональна концентрации глюкозы. Снижение активности мутантной глюкокиназы может приводить к уменьшению притока глюкозы в β-клетки и повышению порога концентрации глюкозы, стимулирующей секрецию инсулина. Сравнение скорости секреции инсулина при различных концентрациях глюкозы показало, что снижение секреции инсулина при дефекте глюкокиназы может достигать 60%. Однако следует отметить, что одни мутации приводят к незначительному, а другие – к выраженному изменению каталитической активности и/или других свойств глюкокиназы. У больных с мутациями глюкокиназы нарушены также процессы накопления гликогена в печени и увеличена скорость глюконеогенеза. Более того, при поддержании эугликемии (клэмп-метод) у больных этой группы продемонстрировано нарушение подавления продукции глюкозы печенью при физиологических концентрациях инсулина. Безусловно, это также является важным патогенетическим фактором, обусловливающим гипергликемию после приема пищи у больных этой группы. Таким образом, в патогенезе гипергликемии у больных MODY2 важную роль, помимо нарушений функции β-клеток, играют нарушения метаболизма глюкозы в печени. Несмотря на то, что при MODY2 нарушена функция β-клеток и гепатоцитов, гипергликемия, ассоциированная с дефектами глюкокиназы, обычно умеренная. Тем не менее, нарушения углеводного обмена у носителей мутаций могут быть выявлены уже в первые годы жизни (наиболее ранний возраст постановки клинического диагноза – 1 год) и практически у всех – к завершению полового развития. Развитие кетоацидоза не характерно для больных MODY2. Выраженность гипергликемии натощак прогрессирует очень медленно и обычно достигает уровня 6,7 ммоль/л и выше в среднем возрасте. Дебют этой формы СД у женщин наступает несколько раньше, чем у мужчин, и обычно отмечается во время беременности. Как правило, только у пожилых лиц гипергликемия сопровождается клиническими симптомами диабета. Явный СД развивается приблизительно у 50% лиц, имеющих дефекты глюкокиназы.
В 1996 г. было установлено, что мутации ядерного фактора-1α гепатоцитов, экспрессирующегося в печени, β-клетках поджелудочной железы и других тканях, ответственны за развитие MODY3. Ядерный фактор-1β гепатоцитов является фактором транскрипции, который участвует в экспрессии нескольких генов печени, а также действует, как слабый трансактиватор гена инсулина [2]. В настоящее время около 100 мутаций этого фактора обнаружено в различных популяциях. Как у лиц с развившимся диабетом, так и у носителей мутаций без диабета характерным является нарушение секреции инсулина в ответ на введение глюкозы или лейцина при отсутствии выраженной инсулинрезистентности. Для MODY3 характерно относительно позднее начало, но затем – быстро прогрессирующее развитие заболевания от нарушенной толерантности к глюкозе до явного диабета. До 10-летнего возраста большинство носителей мутаций имеют нормогликемию натощак. У детей более старшего возраста показатели гликемии незначительно превышают верхнюю границу нормы. Однако в ходе пероральной пробы на толерантность к глюкозе (ППТГ) у них выявляется тип кривой, характерный для диабета. По сравнению с MODY2, при варианте MODY3 наблюдается более тяжелое течение, часто развиваются осложнения диабета, особенно ретинопатия. У больных MODY3 ретинопатия встречается в 3 раза чаще, чем у лиц с MODY2, но в 2,6 раза реже, чем у больных СД 2-го типа с поздним началом заболевания. Развитие ретинопатии у больных MODY3 зависит от качества контроля гликемии и, в меньшей степени, от длительности диабета. С ожирением, дислипидемией и артериальной гипертензией MODY3 ассоциирован не более, чем СД 1-го типа. В отличие от MODY2, гипергликемия у больных MODY3 обычно развивается к завершению полового созревания MODY4 (мутации гена фактора-1 регуляции промотора гена инсулина). Фактор-1 регуляции гена промотора инсулина (IPF1) является фактором транскрипции, который контролирует развитие поджелудочной железы и экспрессию ключевых генов β-клеток, включая ген инсулина. Дефект IPF1 приводит к нарушению развития β-клеток, а также к нарушению экспрессии переносчика глюкозы, GLUT2, и/ или глюкокиназы. Новорожденные с мутациями обоих аллелей имеют агенезию поджелудочной железы [2].
Подтип MODY, обозначаемый как MODY 5, обусловлен нарушениями гена, кодирующего ядерный фактор-1 β гепатоцитов, который регулирует тран-скрипционную активность и функционирует как гомодимер и гетеродимер. Ядерный фактор-1 β гепатоцитов экспрессируется в поджелудочной железе и почках. В настоящее время известно, что мутация гена, характерная для этого типа заболевания, редко приводит к развитию диабета, но в семьях прослеживается патология развития почечной ткани: поликистоз почек, почечная дисплазия, очень часто диагностированная уже внутриутробно. К другим проявлениям относятся патология развития матки и половых органов, гиперурикемия, подагра и нарушения функции печени. Больные с MODY 5 не чувствительны к препаратам сульфонилмочевины и требуют назначения инсулина. У большинства больных детей с этим типом диабета нарушена в различной мере экзокринная функция поджелудочной железы.
MODY 6 возникает при мутации гена транскрипционного фактора, который называют фактором нейрогенной дифференциации 1, расположенного на 2-й хромосоме. NeuroD1 способствует транскрипции гена инсулина, а также некоторых генов, участвующих в формировании β -клеток и части нервной системы [8]. Этот подтип диабета является одной из редких форм MODY. Только 3
семьи с мутациями данного гена были определены до сих пор. Большинство членов семьи с диабетом были диагностированы после 40 лет.
MODY X: другие возможные формы MODY. Известные 6 видов, описанные выше, составляют около 85–90% случаев, но предполагается, что существуют и другие формы, причины которых еще предстоит определить.
Итак, мы видим, как важна правильная диагностика типа СД при дебюте заболевания. Хотя данные последних лет свидетельствуют о наличии неиммунных форм сахарного диабета в детском и молодом возрасте, абсолютное большинство детей с сахарным диабетом имеют диабет 1-го типа. Проблемы возникают при выявлении невысокой гипергликемии, часто обнаруживаемой случайно, в отсутствие клинических проявлений, когда речь может идти о ранней диагностике диабета 1-го типа либо о мягкой манифестации заболевания, характерной для диабета 2-го типа или MODY. Большое значение при дифференциальной диагностике типа СД имеет тщательный сбор анамнеза: отягощенная наследственность по СД, особенности дебюта (возраст, наличие кетоацидоза), используемые дозы инсулина за время заболевания. Именно на этом этапе, если у врача есть сомнения в постановке диагноза, очень важно направить пациента на дополнительные исследования: определение АТ к β -клеткам, к GAD, С-пептида, ИРИ, молекулярно-генетическое исследование. Не стоит забывать, что правильная постановка диагноза ведет к назначению адекватной терапии. При СД 1-го типа необходим экзогенный инсулин, тогда как при MODY-диабете эффективны препараты сульфонил-мочевины.
Проблемы дифференциальной диагностики типа СД являются актуальными, особенно у пациентов молодого возраста. И хотя современная медицина имеет широкие диагностические возможности, остается много загадок в практике врача-эндокринолога.
Список литературы Роль MODYQ диабета в структуре заболеваемости сахарным диабетом среди пациентов молодого возраста
- Дедов И.И., Кураева Т.Л., Петеркова В.А. Сахарный диабет у детей и подростков: рук. для врачей. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -172 с.
- Дедов И.И., Кураева Т.Л., Ремизов О.В. и др. Генетика сахарного диабета у детей и подростков: рук. для врачей. -М., 2003. -72 с.
- Кураева Т.Л., Зильберман Л.И., Титович Е.В. и др. Генетика моногенных форм сахарного диабета//Сахарный диабет. -2011. -№ 1. -С. 20-27.
- Кураева Т.Л., Зильберман Л.И. Неиммунные формы сахарного диабета у детей. Детская эндокринология. -М., 2010. -С. 14-18.
- Сенаторова А.С., Караченцев Ю.И., Кравчун Н.А. и др. Сахарный диабет: от ребенка до взрослого. -Изд-во ХНМУ, 2009. -259 с.
- Barret T.G. Differential diagnosis of type 1 diabetes: which genetic syndromes need to be considered//Pediatric Diabetes. -2007. -No. 8. -P. 15-23.
- Barret T.G., Ehtisham S. The emergence of type 2 diabetes in childhood//Ann. Clin. Biochem. -2004. -Vol. 41. -P. 10-16.
- Copeman J.B., Cucca F., Hearne C.M. Linkage disequilibrium mapping of a type 1 diabetes susceptibility gene (IDDM7) to chromosome 2q31 q3//Nat. Genet. -1995. -No. 9. -P. 80-85.
- Frayling T.M., Evans J.C., Bulman M.P. Beta cell genes and diabetes: molecular and clinical characterization of mutations in transcription factors//Diabetes. -2001. -No. 50. -P. 94-100.
- Haines L., Wan K., Lynn R. Rising incidence of type 2 diabetes in children in the U.K.//Diabetes care. -2007. -No. 30. -P. 1097-1101.
- Hattersley A., Pearson E. Large genomic rearrangements in the hepatocyte nuclear factor 1beta (TCF2) gene are the most frequent cause of maturity onset diabetes of the young type//Endocrinol. -2006. -No. 147. -P. 2657-2663.
- ISPAD clinical practice consensus guidelines 2006-2007//Pediatric Diabetes. -2006. -P. 352-360.
- Klupa T., Warram J.H., Antonelis M. et al. Determinants of the development of diabetes (maturity onset diabetes of the young 3) in carriers of HNF 1{alpha} mutations evidence for parent of origin effect//Diabetes Care. -2002. -No. 25. -P. 2292-2301.
- Lindner T.H., Cockburn B.N., Bell G.I. Molecular genetics of MODY in Germany//Diabetologia. -1999. -No. 42. -P. 121-123.
- Miller S.P., Anand G.R., Karschnia E.S. et al. Characterization of glucokinase mutations associated with maturity onset diabetes of the young type 2 (MODY 2)//Diabetes. -1999. -Vol. 48. -P. 1645.
- Miller S.P., Anand G.R., Karschnia E.S. Testing computational prediction of missense mutation phenotypes//Diabetes. -1999. -Vol. 48, No. 8. -P. 1645.
- Njolstad P.R., Molven A., Sovik O. Insulin resistance in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus: relation to obesity//Diabetes in Childhood and Adolescenc. -2005. -P. 86-93.
- Pearson E., Flechtner I., Njolstad P.R. et al. Switching from insulin to oral sulfonylureas in patients with diabetes due to kir 6.2 mutations//N. Engl. J. Med. -Vol. 355. -P. 467-477.
- Tattersal R.B., Fajans S.S. A difference between the inheritance of classical juvenile onset and maturity onset type of diabetes in young people//Diabetes. -1975. -No. 24. -P. 44-53.