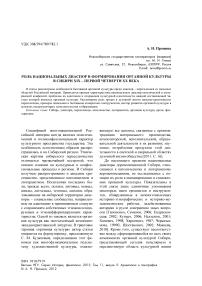Роль национальных диаспор в формировании органной культуры в Сибири XIX - первой четверти ХХ века
Автор: Пронина Анна Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 5 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены особенности бытования органной культуры среди диаспор - переселенцев из западных областей Российской империи. Приводится краткая характеристика национальных диаспор католической и лютеранской конфессий, проблемы их адаптации и сохранения культурной идентичности, важной составляющей частью которой является органная культура. Рассмотрены роль органа в духовной жизни западно-христианских переселенцев, примеры появления и бытования конкретных инструментов, вектор развития органной культуры в аспектах инструментария, исполнительства и образования.
Сибирь, диаспора, переселенцы, католичество, лютеранство, органная культура, орган, фисгармония
Короткий адрес: https://sciup.org/14737834
IDR: 14737834 | УДК: 308/394/789/783.1
Текст научной статьи Роль национальных диаспор в формировании органной культуры в Сибири XIX - первой четверти ХХ века
Спецификой многонациональной Российской империи всегда являлся полиэтнический и поликонфессиональный характер культурного пространства государства. Эта особенность естественным образом распространилась и на Сибирский регион. Этническая картина сибирского переселенчества отличается чрезвычайной пестротой, что оказало влияние на культурные и конфессиональные процессы в регионе. В Сибири получило распространение и западное христианство, представленное католицизмом и лютеранством. Носителями последних были, прежде всего, поляки, литовцы, немцы, шведы, латгальцы, эстонцы, латыши, образовывавшие на сибирской территории диаспоры – социальные сообщества, направленные на адаптацию в принимающем социуме с сохранением собственных этноконсолидирующих и этнодифференцирующих характеристик. Одной из таковых является органная культура как неотъемлемый компонент западнохристианской литургии. В трактовке термина «органная культура» автор статьи опирается на формулировку, предложенную С. М. Будкеевым, определившим этот феномен как многофункциональную подсистему художественной культуры, охваты- вающую все аспекты, связанные с органом: традиции материального производства, композиторской, исполнительской, образовательной деятельности в их развитии; изучение, потребление продуктов этой деятельности в светской и сакральной областях духовной жизни общества [2011. С. 16].
До настоящего времени национальные диаспоры дореволюционной Сибири, относящиеся к католическому и лютеранскому вероисповеданиям, не исследовались с позиции их роли в инициировании и становлении органной культуры. Показательны в этой связи лишь единичные упоминания некоторых имен органистов и инструментов, обнаруженные в немногочисленных историко-этнографических и историко-музыковедческих работах, задействованные авторами в русле совершенно иных вопросов [Гапоненко, Семенов, 2006; Ендрыхов-ская, 2002; Куперт, 2006; Недзелюк, 2001; Ханевич, 1998; Харкеевич, 1987; Черказья-нова, 1999б; Шостакович, 2002; Макеева, 2010]. Кроме того, существует несоответствие между сформировавшейся во всех своих компонентах органной культурой Сибири, представляющей сегодня популярную и перспективную область культурной жизни
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 5: Археология и этнография © А. Н. Пронина, 2012
региона, и степенью ее изученности. Осмысление и объективная оценка современного состояния сибирской органной культуры невозможны без обращения к истокам – дореволюционному этапу ее становления. Сложившаяся ситуация определяет актуальность проблематики данной статьи. Отсутствие систематизированного источникового комплекса потребовало многолетней работы по выявлению и систематизации документальных и нарративных источников, которые автор почерпнула в государственных российских и зарубежных архивах, музеях, дореволюционной периодической печати, а также в работе с респондентами – представителями национальных диаспор и их потомками (интервьюирование, исследование их личных архивов). На основе выявленного массива сведений, подавляющая часть которых впервые вводится в научный оборот, в данной статье предпринята попытка реконструировать историю органной культуры в Сибири XIX – первой четверти ХХ в. и оценить роль национальных диаспор в их становлении. Предлагаемая работа позволит по-новому оценить процессы, происходившие в культурной и духовной жизни дореволюционной Сибири.
Население католического и лютеранского вероисповедания представлено двумя основными категориями: прибывшими в Сибирь принудительным образом в качестве ссыльных и военнопленных и теми, чье появление в регионе, вызванное экономическими и земельными обстоятельствами, носило добровольный характер. Соотношение этих категорий на разных хронологических этапах было неодинаковым, что обусловливалось объективными и субъективными факторами освоения Сибири. Особенности появления в регионе представителей рассматриваемых диаспор, в конечном счете, влияли на специфику их повседневной и духовной жизни, что также определяло возможность приобретения органного инструментария и формирования исполнительских сил.
Известно, что первые католики, главным образом поляки, а также литовцы и немцы, появились здесь в качестве военнопленных в период Ливонской войны (вторая половина XVI в.), русско-польских войн (XVII в.). Ранние сведения о лютеранах датируются XVII–XVIII вв. В ходе Северной войны (1700–1721 гг.) в регион были сосланы во- еннопленные из армии Карла XII – шведы-лютеране, а также поляки-католики. Их расселение производилось в таких городах, как Тобольск, Омск, Томск, Иркутск. В конце XVIII – начале XIX в. в связи с присоединением к Российской империи правобережной Украины, Беларуси, Литвы увеличился поток католиков, с присоединением Латвии и Финляндии – лютеран. Примечательно, что государство обеспечивало им необходимые условия для выполнения религиозных треб: учредило должности полевых (позже – дивизионных) лютеранских проповедников, строились церкви [Черказьянова, 1999б. С. 207; Историческая энциклопедия…, 2009а. С. 298, 771].
Во второй половине XVIII – XIX в. вследствие серии польских восстаний территория Сибири в значительной степени пополнилась ссыльными поляками. Начало польской ссылки связано с восстаниями 1760–1770-х гг. В XIX в. активизация национально-освободительного движения в Царстве Польском (часть Польши, присоединенной к России) вызвала возобновление ссылки в Сибирь. По различным оценкам, после подавления Ноябрьского восстания 1830–1831 гг., было сослано более 20 тыс. повстанцев. Вторая волна характеризуется ссылкой участников Январского восстания 1863–1864 гг., численность которых превышала 18 тыс. человек. Новый приток ссыльных революционеров последовал в 1870– 1890 гг. [Шостакович, 1973; Историческая энциклопедия…, 2009а. С. 644].
Из ссыльных лютеранского вероисповедания формировалась прибалтийская диаспора. С 1845 г. их поселяли в деревню Рыж-ково Тобольской губернии, в 1857 г. – в поселок Верхний Суэтук Минусинского уезда. В следующем году в том же уезде были организованы поселки Нижняя Буланка для ссыльных немцев и латышей, в 1861 г. – поселок для ссыльных эстонцев Верхняя Буланка [Лоткин, 2003. С. 35].
Параллельно с принудительным переселением происходила добровольная миграция, обусловленная множественными причинами [Черказьянова, 1999б. С. 207]. Экономическая миграция католиков и лютеран особенно усилилась в последние десятилетия XIX в. и достигла своей кульминации в период строительства и запуска Транссибирской железной магистрали, а также в годы аграрных преобразований Столы- пина [Историческая энциклопедия…, 2009б. С. 264, 464, 644; Коровушкин, 2007. С. 41; Кучинский, Вуйцик, 2002. С. 44–45]. Это время характеризуется ростом численности переселенцев, принадлежащих западнохристианской вере. Например, согласно переписи, в 1808 г. в Томской губернии проживало 23 лютеранина, а в 1912 г. их число увеличилось до 22 014 человек [Черказьяно-ва, 1999а. С. 384, 387]. Судя по статистическим данным, большинство католиков проживало в Томске, Новониколаевске, а также в поселках Томского, Барнаульского, Кузнецкого и Мариинского уездов Томской губернии, Петропавловском, Омском и Кокче-тавском уездах Акмолинской области, Тобольске, Ишимском, Тюкалинском, Тарском уездах Тобольской губернии, а также в Иркутской губернии [Памятная книжка…, 1908. С. 12; Недзелюк, 2001]. Мигранты лютеранского вероисповедания заселяли Тарский уезд Тобольской губернии, Омский и Акмолинский уезды Акмолинской области, Змеиногорский, Барнаульский, Славгород-ский уезды Томской губернии. Например, в Славгородском уезде к 1914 г. проживало более 7 тыс. лютеран [Шлейхер, 1996. С. 471].
Перед мигрантами неминуемо вставал вопрос адаптации, сохранения национальной и культурной идентичности. Специфика Сибири как активно осваиваемой поликуль-турной и поликонфесcиональной территории определила лояльное отношение принимающего общества к западнохристианским переселенцам, что давало последним возможность собственной репрезентации и организации взаимоотношений с окружающей социальной средой, исходя из своих установок. Становясь субъектами взаимодействия в рамках сибирского сообщества, адаптируясь в условиях новой территории, иной культуры и доминирующего вероисповедания, переселенцы, с одной стороны, попадали под его влияние, приспосабливаясь к комплексу социальных и этнокультурных условий. Вместе с тем они привносили в это общество как национальные, так и общеевропейские ценности [Оплаканская, 2004. С. 123]. Они стремились к сохранению собственной национальной культурно-лингвистической среды, социальной и культурной самоидентичности, заключающейся в обособленности образа жизни, стабильности стереотипов поведения, регламентации жиз- ненного уклада, высоком уровне производственной и бытовой культуры, особых конфессиональных отношениях, национальных школах и пр., в том, что именуется «диас-порной культурой» или «диаспорально-стью» [Нам, 2005. С. 149]. Механизм данного феномена заключается в следующем: выделение определенных культурных элементов, их консервация, придание этим элементам статуса этнических символов и последующая культивация в качестве основных характерных черт народа, «этнической культуры» [Смирнова, 2009. С. 250]. Благодаря этим стремлениям в Сибири образовывались очаги европейской культуры, качество функционирования которых напрямую зависело от специфики существования их носителей в регионе.
Громадное значение в вопросе адаптации имела приверженность к религиозным традициям, этническое и конфессиональное самосознание, выступающие как мощный консолидирующий фактор. Для многих этносов понятия их этнической принадлежности и веры являются синонимами, что характерно, например, для латгальцев. Будучи этнической группой, входящей в состав латышского народа, латгальцы, в отличие от латышей-лютеран, относятся к католическому вероисповеданию 1. Некоторые старожилы-латгальцы до сих пор говорят: «мы – ката́лики», подчеркивая этим не только свою религиозную, но и этническую принадлежность [Сибирская Латгалия, 2009]. Как духовная составляющая, а также как форма социального объединения, религия сплачивала не только представителей определенных этносов, например поляков-католиков, немцев-лютеран, но и всех, принадлежащих католической или лютеранской вере. Именно поэтому для западнохристианских переселенцев первостепенной задачей являлась организация духовной жизни, неотъемлемой составляющей которой было строительство церкви. Для них храм был оазисом родной культуры. В храме осуществлялось отправление религиозных обрядов, кроме того, в рамках церкви организо- вывалось школьное образование 2, проводился досуг – чтение в церковной библиотеке книг и периодической печати, встреча праздников, постановка спектаклей, духовные концерты.
В устройстве церкви, как внешнем, так и внутреннем, переселенцы старались максимально приблизиться к западным образцам. Все в храме ассоциировалось с европейской культурой: сама архитектура здания, выполненная, как правило, в неоготическом стиле, иконопись и витражи работ соотечественников, традиционное богослужение, звучание родного языка (особенно это касается лютеранской литургии, проводимой на родных языках – немецком, финском и др.) и обязательно традиционный музыкальный компонент. В последнем пункте мощным идентификационным маркером является органное звучание, дающее однозначную ассоциацию с европейской культовой и светской музыкальной традицией. Орган, уже в течение многих веков неразрывно связанный с сакральным пространством храма, имеет для западных христиан глубочайшее значение. В эпоху барокко этот инструмент олицетворял собой идею мироздания, унаследованную еще из Средневековья. Аллегорию «мирового органа» изобразили А. Силезиус, И. Кеплер. А. Кирхер распределил «музыку» мира по шести органным регистрам, соответствующим дням творения. М. Преториус говорил о мире, как органе, создатель которого является и органистом [Долгов и др., 1994. С. 116].
Почитание переселенцами религиозных традиций и стремление к их сохранению сыграли большую роль в проникновении в Сибирь такого явления мирового масштаба, как органная культура, и ее постепенном становлении. Это происходило, несмотря на трудоемкость процессов приобретения инструментария и его обслуживания, необходимость обеспечения исполнительских сил и органной образовательной деятельности, а также популяризации в регионе органного искусства посредством проведения духовных концертов с участием органа и публикаций в периодической печати, вовлечение в область органного искусства лиц иных конфессий и национальностей.
Анализ распространения западнохристианского храмового строительства в Сибири позволяет обозначить логику и хронологию появления и форм бытования органного инструментария, представленного органами и органоподобными фисгармониями 3. Так, первые, преимущественно деревянные, храмы лютеранской и католической конфессий возводились обычно в крупных административных центрах Западной и Восточной Сибири начиная с XVIII в.: лютеранские церкви – в Омске (1791–1792 гг.), Тобольске (1818 г.), Иркутске (1827 г.), Барнауле (1849 г.), Красноярске (1854–1855 гг.); римско-католические приходские церкви – в Иркутске (1825 г.), Томске (1833 г.), Тобольске (1847 г.), Красноярске (1853–1857 гг.) 4. Но иногда строились и на селе – например, в указанной выше дер. Рыжково (1816 г.). Со второй половины XIX в. этот процесс распространился на все регионы Сибири. Наряду с деревянными появились каменные храмы в губернских, окружных и уездных городах Сибири. Построены евангелическо- лютеранские церкви в 1857–1861 гг. в Барнауле, в 1857–1859 гг. – Томске, в 1883 г. – Красноярске, в 1885 г. – Иркутске, в 1888 г. – поселке Верхний Суэтук. Появились римско-католические приходские храмы: в 1861–1867 гг. в Омске, в 1874 г. – Красноярске, в 1875 г. – Кургане, в 1876 г. – Чите, в 1881–1884 гг. – Иркутске, в 1896 г. – Благовещенске, в 1896 г. – Александровском посту на Сахалине. Кульминация процесса строительства западнохристианских церквей отмечалась в первой четверти ХХ в. К этому времени было построено около семидесяти католических приходских, филиальных церквей, часовен, молитвенных домов, более тридцати лютеранских храмовых зданий в городах, поселениях Сибирского и Дальневосточного регионов. Среди них назовем католические церкви в Тобольске (1907 г.), Тюмени (1904 г.), Ново-Нико-лаевске (1905–1909 гг.), Каинске (1906– 1907 гг.), Барнауле (1907–1909 гг.), Владивостоке (1907–1914 гг.), Красноярске (1908– 1915 гг.), а также евангелическо-лютеранской церкви во Владивостоке (1909 г.) [Баландин, Ющук, 2000; Галеткина, 1995; Дворецкая, 2006; Лебедева, 2004; Ющук, 2000]. Эти цифры дают представление о примерном количестве органного инструментария в Сибири.
Исследование архивной документации позволяет сделать вывод, что наличие органа в церквях Сибири обуславливалось не только богослужебной необходимостью, но и имело статусное значение, определяя благосостояние прихода, а также повышая авторитет национальной диаспоры. Примером того может служить масштабная переписка Евангелическо-Лютеранской генеральной консистории, Генерал-губернатора Великого княжества Финляндского, Департамента духовных дел иностранных исповеданий и некоторых других организаций «по вопросу о доставлении в Верхний Суетук, Восточной Сибири, органа, пожертвованного некоторыми частными лицами в Гельсингфорсе» 5. Эта переписка раскрывает все стадии чрезвычайно трудного процесса приобретения инструментария: от этапа переговоров до отправки и доставки органа в Сибирь, что достойно отдельного исследования. Вместе с тем покупка, установка и последующая эксплуатация инструментов сопро- вождались большими сложностями. Например, в целях экономии на перевозке, а также ввиду большой вероятности деформации во время транспортировки мягкого и податливого металла, практиковалось производство органных труб непосредственно по прибытию на место. Они изготавливались представителями органостроительных фирм по старинным технологиям литья металла на песке 6. Учитывая территориальную отдаленность региона от Петербурга и Москвы, где имелись единичные мастера, изготавливающие органы, а тем более от европейских городов, в которых находились органостроительные фирмы, неразвитость транспортных путей и инфраструктуры, можно представить, насколько трудоемким и затратным была установка органа в сибирских западнохристианских храмах, и какое значение для общины имел факт приобретения «короля инструментов».
Л. И. Ройзман приводит примеры цен на органы в период второй половины XIX – начала ХХ в.: так, в конце 1850-х гг. для лютеранской церкви в Киеве приобрели орган из Кельна стоимостью выше 3 000 руб.; в 1873 г. в открывшемся в Саратове католическом храме польской фирмой «Петель-ский» установлен шестнадцатирегистровый орган за 2 600 руб. [Ройзман, 1979. С. 247– 248].
Результатом многолетней источниковедческой деятельности автора статьи стала информация о сорока двух единицах органного инструментария, имевшегося в дореволюционной Сибири. Первые известные нам сведения датируются 1826 г. – временем приобретения представителями польской диаспоры органа для Иркутского костела 7. Помощь в покупке этого инструмента, предположительно, оказал граф Литта (1763–1839 гг.) – влиятельное лицо в католических кругах России, пожертвовавший крупные суммы на строительство Иркутской католической церкви и ее внутреннее убранство [Шостакович, Ячменев, 1988] 8. В 1856 г. во время капитального ремонта церкви было принято решение заменить орган, эксплуатируемый в течение тридцати лет, на новую фисгармонию. В том же году выписан «орган-Мелодиум» 9 парижской фабрики «Дебена», средства на приобретение и доставку которого собраны также из пожертвований прихожан. В описи имущества Иркутского костела за 1874 г. эта фисгармония значится как «орган-меледикон» 10. В 1897 г. из Варшавы был выписан новый инструмент с двумя клавиатурами и 21 регистрами – Американский орган «Стори и Кларк», стоимость которого составляла 937 руб. 20 коп. со всеми расходами 11.
Необычна история органного инструментария Нерчинской католической часовни в Восточной Сибири. Первый инструмент упоминается в письме польки Антониды Рошковской от 19 августа 1846 г., адресованном в Польшу родителям ссыльного Александра Белинского. Сведения о нем приведены в описании интерьера часовни: «Белые стены… деревянные, украшенные несколькими образами, дарами набожных лиц, несколько простых скамеек вокруг, и это все. Целиком это должно представлять прекрасный характер набожности, и в то же время простоты, если не скажу бедности. Настоящая часовня изгнанников!.. музыкой и пением при фисгармонии изгнанники сопровождают молитвы священника и горстки собратьев» [Nowinski, 1995. P. 191; Гапоненко, Семенов, 2006. С. 212]. Несмотря на трудное материальное положение, представители диаспоры ссыльных поляков изыскали средства на покупку для часовни фисгармонии. Примерно в 1856 г. она была заменена другим инструментом, который в источниках фигурирует как орган. История появления этого инструмента связана с двумя именами – Т. Мрозовским и Н. Н. Боткиным. В 1854 г. ссыльному заключенному Т. Мрозовскому удалось совершить побег из Нерчинского завода и достичь Франции. В те же годы во Франции находился московский купец Николай Боткин – известный чаеторговец, имевший закупочную контору в Кяхте. Пользуясь ситуацией, Мрозовский передал купцу купленный им орган для католической церкви в Нерчинском заводе [Гапоненко, Семенов, 2006. С. 227–229].
Упоминание об одном из инструментов католической церкви Томска содержится в книге А. В. Адрианова «Томская старина» (1912 г.) – в ней автор указывал, что построенный в 1830-х гг. Томский костел с течением времени пополнялся «приношениями своих прихожан, заводивших мебель, утварь, облачения, иконы, книги и прочее». Лишь спустя несколько десятилетий – в 1862 г., в церкви зазвучал «первый орган» [Адрианов, 1912. С. 111]. «Визитное описание» Томской римско-католической церкви за 1899 г. конкретизирует данные факты. Так, в разделе «органы» значится «французский, фабрики Александра, купленный в 1862 г. куратом Энгельгардтом, старый, 450 руб., 1 шт.» 12 Позже на смену этому инструменту поступил «орган американской фабрики “Эстля и Ком”, новый, с двумя клавиатурами, купленный в 1882 г. в Варшаве в магазине Гросмана Вице-Куратом Громадским 13 – 1 000 руб.» 14
Как видно из представленных примеров, каждый случай приобретения органного инструментария в Сибири уникален. На этих инструментах играли органисты из числа представителей национальных диаспор Сибири, многие из которых были специально приглашены в регион на должность церковных органистов. Обратимся к конкретным персоналиям исполнителей и обстоятельствам их появления. В ходе работы с архивной документацией автором выявлено тридцать восемь имен органистов дореволюционной Сибири. Наиболее ранние из известных нам сведений связаны с именем Адама Гросса – активного деятеля Варшавского тайного общества и национально-освободительного движения, приговоренного к четырем годам каторжных работ по делу Г. К. Гзовского 15 «за участие в заговоре произвести в Царстве
Польском и Литве вооруженное восстание для введения республиканского правления». С 1845 г. он входил в Нерчинско-заводскую диаспору ссыльных поляков [Тимофеева, 2001. С. 39]. Талантливый концертирующий, как у себя на родине, так и в Сибири 16, пианист-самоучка и композитор 17 Гросс организовал хор певчих в Нерчинском заводе, где служил приходским органистом. Ссыльный поляк Руцинский писал в мемуарах о «проникновенном» богослужении зимой 1840 г. в католической церкви Нерчинского завода, которое произвело впечатление даже на русских инженеров, «которые слушали пение как концерт». По словам ссыльного, «некоторые из них, например меломан майор Таскин, не пропустил ни одной службы» [Ендрыховская, 2002. С. 212]. Можно предположить, что с появлением в католической часовни талантливого исполнителя А. Гросса католические богослужения стали привлекать все больше публики, в том числе представителей иного вероисповедания.
В 60–70-х гг. XIX в. функции приходских органистов в Иркутской католической церкви исполняли ссыльные участники польского восстания 1863–1864 гг. Август Иванский и Карл Гриблевский [Там же. С. 215]. В 1892–1912 гг. в Омской лютеранской церкви нес службу латышский органист и по совместительству учитель немецкого языка Альберт Браун, примкнувший в Сибири к немецкой диаспоре. Он получил органное образование в немецкой гимназии в Риге, по окончании которой работал приходским органистом в местной церкви. Причиной его переселения стала драма личной жизни – трагическая гибель супруги, случившаяся вскоре после бракосочетания [Майский, 1964. С. 156–157]. И. М. Майский в своих воспоминаниях описывал, как в 1900-м г. в Омской лютеранской церкви слушал «изумительные органные концерты» своего педагога по немецкому языку органиста А. Брауна: «Большую роль в сближе- нии с учителем (А. Брауном. – А. П.) сыграла моя любовь к органу. Этот инструмент всегда возбуждал во мне самое искреннее восхищение. До сих пор я считаю, что орган – самый могучий, самый вдохновенный музыкальный инструмент, из всех, созданных человечеством. Больше, чем какой-либо иной, он способен покорять и завоевывать душу» [Там же. С. 156].
Иного рода обстоятельства, изложенные в «Прошении Превосходительнейшему и Достойнейшему Архиепископу и Митрополиту Могилевскому» от лица профессионального литовского органиста Франциска Бовко, обусловили его появление в Западной Сибири. В документе значится, что по причине русско-японской войны Бовко был приписан к «запасной армии». В результате он оставил в Литве должность органиста, «во избежание войны» переселился в Сибирь и вступил «на должность в полицию» в Спасске (Томская губерния). После войны Бовко уволился с полицейской службы и планировал вернуться на родину. Однако в апреле 1906 г. в город приехал ксендз Мустейкис, предложивший ему место приходского органиста в Спасской католической церкви на условиях оплаты из приходских сумм 15 руб. в месяц, предоставления квартиры и отопления, а также десяти процентов от всех доходов. Помимо этого ему платили «за крестины, венцы, похороны и экзеквии». Органист исполнял также обязанности закристиана, звонаря, «содержал в чистоте костел и закристию 18» 19.
Отметим персоналии органистов, специально приглашенных на данную должность в Сибирь. Известно имя латыша Яниса Дри-тиса, с 1880 г. более двадцати лет прослужившего в лютеранской церкви латышской колонии села Нижняя Буланка Енисейской губернии, куда он приехал по приглашению пастора [Driķis, 1926]. В архивных документах значится также имя Боцалевского, которого одновременно с покупкой инструмента в 1899 г. пригласили из Варшавы в Читинскую католическую церковь на место приходского органиста 20. В 1910 г. в католическую церковь Омска в качестве офици- ального органиста из Польши был приглашен Мыстковский 21, имевший профессиональную музыкальную подготовку 22.
Из анализа архивной документации и дореволюционной периодической печати следует, что с годами деятельность западнохристианских переселенцев в области органной культуры привела к расширению сферы бытования органа в Сибири за рамками национальных диаспор – католических и лютеранских общин. Постепенно интерес к органному искусству стал появляться в более широких слоях сибирской интеллигенции, принадлежавшей к иным религиозным и национальным сообществам. Особый интерес для них представляли духовные концерты с участием органа, проводимые в католических и лютеранских церквях сибирских городов. Так, в конце XIX в. устроителями таких концертов в лютеранской церкви Томска являлись директор Томских музыкальных классов А. А. Ауэрбах [Бер-нандт, 1971. С. 62], пианист, свободный художник Л. А. Максимов, исполнявшие партию органа [Сибирская жизнь, 1899].
Показательно, что на рубеже XIX–ХХ вв. все популярнее становилось внецерковное исполнительство на фисгармониях – в домах интеллигенции, а также в различных образовательных учреждениях Сибири. Кульминацией этого процесса стало открытие в 1917 г. класса органа в Народной консерватории Томска, деятельность которого предполагалось направить на формирование местных исполнительских сил. К сожалению, продолжительной деятельности этого класса не осуществилось в силу причин, связанных с революционными событиями 1917 г., уничтожением храмов, инструментов и самих органистов [Куперт, 2006. С. 398–399].
Еще недавно казалось, что появление в дореволюционной Сибири органной культуры нереально и немыслимо. Изначально связанная с конфессиональной областью своего функционирования, эта культура по идеологическим соображениям долгое время была вне исследовательского интереса. В связи с этим укрепилось мнение, что формирование органной культуры в Сибири берет начало в 1968 г., когда в Новосибирской консерватории установили два орга- на – реставрированный старинный инструмент фирмы «Э. Ф. Валькер» и большой орган «В. Зауэр». Так, например, в одной из публикаций газеты «Молодость Сибири» отмечалось: «На днях в Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки состоялся первый органный концерт. Это событие знаменательно для развития музыкальной культуры Сибири: ведь это первый орган на ее огромной территории...» [Хвош-нянская, 1968]. Однако выявленный автором статьи фактологический материал и предпринятая на его основании попытка реконструкции истории органной культуры в Сибири XIX – первой четверти ХХ в. говорят об обратном. Важно подчеркнуть, что ее становление в основных компонентах, таких как инструментарий, исполнительство и образование, стало возможным благодаря деятельности на территории региона представителей национальных диаспор, относящихся к католической и лютеранской конфессиям. Несмотря на тяжелые условия пребывания в Сибири, суровый климат, иную среду, им удавалось сохранять свою культурную идентичность, религиозные и культурные традиции, важной составляющей которых было органное исполнительство. Особая роль этих сообществ состоит в том, что они не только инициировали бытование органа в регионе, но и приобщили местную интеллигенцию к его звучанию и, что чрезвычайно важно, создали почву, во многом определившую дальнейшую и, конечно же, настоящую судьбу органной культуры в Сибири.
Сибирская жизнь. 1899. № 68. С. 1.
Сибирская Латгалия // Сибирская католическая газета. 2009. 20 нояб. URL: http://sibcatholic.ru/2009/11/20/sibirskaya-latgaliya/ (дата обращения: 22.01.2011).
Смирнова Т. Б. Особенности воспроизводства этнической культуры немцев в Сибири в условиях миграций // Этнические немцы России: исторический феномен народа в пути: Материалы XII Междунар. науч. конф. Москва, 18–20 сентября 2008 г. М.: МСНК-пресс, 2009. С. 250–258.
Тимофеева М. Ю. Участники польского национально-освободительного движения в Забайкальской ссылке (1830–1850 гг.): Материалы к «Энциклопедии Забайкалья». Чита, 2001. Вып. 8. 151 с.
Ханевич В. А. Сибирский Белосток: Сб. док. и материалов. Томск, 1998. 234 с.
Харкеевич И. Ю. Музыкальная культура Иркутска. Иркутск, 1987. 279 с.
Хвошнянская С. Первый в Сибири // Молодость Сибири. 1968. С. 4.
Черказьянова И. В. Состояние школьного дела в лютеранских приходах Сибири в XVIII – начале ХХ в. // Немцы России в контексте отечественной истории: общие проблемы и региональные особенности. М.: Готика, 1999а.
Черказьянова И. В. Организация духовной жизни лютеран Сибири: хроника событий (XVIII – 1919 г.) // Изв. ОГИК музея. Омск, 1999б. № 8. С. 207–226. URL:
http://museum.omskelecom.ru/deutsche_in_sib/ BOOK/duh_life_luteran.html (дата обращения: 12.03.2008).
Шлейхер И. И. Создание и воссоздание немецкого района на Алтае: опыт и практика // Российские немцы. Проблемы истории, языка и современного положения: Материалы международной научной конференции. Анапа, 20–25 сентября 1995 г. М.: Готика, 1996. С. 471–482.
Шостакович Б. С. Политические ссыльные поляки и декабристы в Сибири // Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в. – февраль 1917 г.). Иркутск, 1973. Вып. 1. С. 258–260.
Шостакович Б. С., Ячменев Е. А. Польский костел // Восточно-Сибирская правда. 1988 г. № 255. С. 2.
Шостакович Б. С. История Иркутского римско-католического прихода до начала ХХ века в отражении материалов государственного архива Иркутской области // Сибирь в истории и культуре польского народа. Иркутск: Ладомир, 2002. С. 114–123.
Энциклопедия Забайкалья: Читинская область: В 4 т. Новосибирск: Наука, 2004. Т. 2: А–З. 419 с.
Ющук Л. А. Архитектура зданий римско-католической и евангелическо-лютеранской церквей в Сибири и на Дальнем Востоке (1792–1917): Автореф. дис. … канд. архитектуры. Новосибирск, 2000. 25 с.
Driķis J. Bulānietis. Sibīrijas atmiņas // Jau-natnes Draugs. Riga, 1926. № 5–12. URL: http://www.iclub.lv/life/LB/atminas.htm (дата обращения: 14.05.2010) (на латыш. яз.).
Gellerman R. F. Gellerman's International Reed Organ Atlas. N. Y.: The Vestal Press, 1998. 316 p.
Nowinski F. Polacy na Syberii Wschodniej. Zeslancy polityczni w okresie micdzypowsta- niowym. Gdansk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1995. 433 s. (на польск. яз.)
The Harmonium. Its History, Its Literature // The Caecila. Magazine of Catholic Church and School Music. Boston: Mclaughlin Reilly Company. 1934. P. 58–61.
NATIONAL DIASPORAS ROLE IN SIBERIAN ORGAN CULTURE FOUNDATION IN XIX – FIRST QUARTER OF XX CENTURY