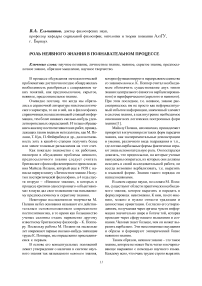Роль неявного знания в познавательном процессе
Автор: Ельчанинов В.А.
Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael
Рубрика: Образование, культура, коммуникация
Статья в выпуске: 1 (19), 2011 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена проблеме определения понятия неявного знания. В статье проанализированы работы наиболее видных авторов в области теории познания. Автор обратил внимание на взаимосвязь научного знания с его философскими предпосылками и образным мышлением ученого.
Научное познание, личностное знание, неявное, скрытое знание, предпосы-лочное знание, образное мышление, научное творчество
Короткий адрес: https://sciup.org/142178520
IDR: 142178520
Текст научной статьи Роль неявного знания в познавательном процессе
В процессе обсуждения методологической проблематики достаточно поздно обнаружилась необходимость разобраться с содержанием таких понятий, как предпосылочное, скрытое, неявное, предсознательное знание.
Очевидно поэтому, что когда мы обратились к справочной литературе эпистемологического характера, то ни в ней, ни в философских справочниках не нашли никакой стоящей информации, тем более никаких сколько-нибудь удовлетворительных определений. И только обращение к анализу постпозитивистских работ, принадлежащих таким видным методологам, как М. Полани, Т. Кун, П. Фейерабенд и др., дало возможность хоть в какой-то степени получить более или менее толковые разъяснения на этот счет.
Как показало знакомство с их работами, пионером в обсуждении проблемы неявного, предпосылочного знания следует считать британского философа венгерского происхождения Майкла Полани, который еще в 1958 г. написал первую книгу «Личностное знание. На пути к посткритической философии», а 4 года спустя вторую – «Неявное знание», в которых в процессе критики одностороннего «объективизма» в науке дал свое толкование так называемому предпосылочному и скрытому знанию.
Некоторые исследователи творчества М. Полани не без основания называют его действительным основоположником современного постпозитивизма, в то время как большинство ученых склонны отдать первенство другому известному британскому философу – К. Попперу. Поскольку работы М. Полани на несколько лет опережают первые сколько-нибудь значащие труды К. Поппера, мы определенно присоединяемся к первым.
В основе его концептуальных положений лежит утверждение о наличии в системе научного знания так называемого неявного знания, которое функционирует в неразрывном единстве со знанием явным. К. Поппер считал необходимым обозначить существование двух типов знания: центрального (явного и вербализирован-ного) и периферического (скрытого и неявного). При этом последнее, т.е. неявное, знание рассматривалось им не просто как неформализуе-мый избыток информации, никчемный элемент в системе знания, а как внутренне необходимое основание всех логических построенных форм знания [1].
Майклу Полани, несомненно, принадлежит приоритет в изучении роли таких форм передачи знания, как экспериментальные демонстрации и умения, различного вида подражания и т.п., где логико-вербальные формы фактически играют лишь вспомогательную роль. Он постарался доказать, что предпосылки, на которые ученые вынуждены опираться, из которых они должны исходить в своей исследовательской работе, не всегда возможно вербализовать, т.е. выразить в языковой форме. Знания такого порядка он назвал неявными.
В самом сердце науки, по словам М. Полани, существуют области практически необходимого знания, которое выразить и передать в формулировках невозможно. К ним, по его мнению, можно и нужно отнести традиции и ценностные ориентации. Согласно его утверждениям, получаемая через органы чувств информация значительно шире и богаче той, которая проходит через сферу нашего мышления и сознания. Человек знает больше, чем он может выразить вербально. Эти неосознанные ощущения и образы и формируют эмпирический базис неявного знания.
Таким образом, неявное знание – это такое знание, которое не может быть четко и исчерпывающе выражено с помощью научного языка. Каждому ясно, что очень трудно строго выразить в виде словесных суждений широко используемые учеными понятия и действия, например, «красивые» решения задачи, «изящно» осуществленный эксперимент или «эстетически совершенную» теорию. Такого рода ценностные ориентации в определенной мере можно отнести к сфере неявного знания. Содержание неявного знания передается, например, в виде образцов от учителя к ученикам, от одного поколения ученых к другому. Известный отечественный методолог М.А. Розов выделяет два типа образцов в науке: образцы-действия и образцы-продукты. «Образцы-действия предполагают возможность продемонстрировать технологию производства любого преобразования предмета» [2]. Можно показать, как мастер делает нож и точит его. Так же учитель демонстрирует последовательность операций при каком-нибудь химическом анализе вещества или решение какой-либо математической задачи. Однако «показать» технологию «производства аксиом» едва ли кому-нибудь удалось. Это происходит потому, что аксиомы и теории представляют определенные образцы духовных продуктов, в которых глубоко скрыты схемы действий, с помощью которых они получены. Эти схемы действия, как правило, остаются не вполне проясненными и для самих создателей аксиом или научных идей. Действительно, ведь никто не знает, как, например, Евклид создал свои замечательные математические «Начала». Ведь он не оставил никаких разъяснений по этому поводу. Он оставил потомкам готовый образец продукта, и сейчас можно лишь гадать, как это было в действительности. Конечно, теперь можно реконструировать процесс действительного создания «Начал», но мы не можем стопроцентно гарантировать, что это можно осуществить достаточно адекватно, тем более что в этом процессе также присутствовали как явные, так и не подлежащие полному чету неявные предпосылки в содержании прошлого знания, включая и религиозно-мистические факторы.
Убедительное обоснование того факта, что научное познание включает в себя наряду с очевидным, явным также и неявное знание, позволяет высказать утверждение, что научная парадигма в ее куновской интерпретации – это не замкнутая область норм и предписаний исследовательской деятельности, она фактически формируется и из других сфер духовной жизни людей. По этому поводу можно напомнить, что многие ученые в своем творчестве испытывали значительное влияние музыки (А. Эйнштейн, М. Больцман), художественно-литературных произведений (Ж. Адамар) и, наконец, религиозномистического опыта.
Таким образом, мы выделяем два типа неявного знания и неявных традиций в науке. Первые связаны с воспроизведением непосредственных образцов деятельности и передачи их на уровне неопосредованной демонстрации образцов деятельности, которые некоторые ученые называют «специальными эстафетами». Вторые предполагают наличие «текста» в качестве посредника. Для них обозначенные выше контакты необязательны.
Фактически эти же мысли выразил несколько позже Т. Кун в своей книге «Структура научных революций», когда говорил, что развитие знаний осуществляется в «некотором пространстве предпосылочного знания», носящем не строго научный характер [3].
Как уже было сказано выше, строго определенного предпосылочного знания в современной научной литературе не дано, поэтому попытаемся дать собственную интерпретацию этому познавательному феномену. Поскольку оно во многих случаях характеризуется как форма неосознанного знания, близкая по содержанию к порогу так называемого сознательного мышления, то его можно, по нашему мнению, обозначить фрейдовским термином «предсознатель-ное», находящееся между «бессознательным» и «осознанным». Оно не только обладает реальным бытием, но и является необходимым условием, предпосылкой функционирования сознания, в том числе и научного характера. Такого рода предпосылочное знание, будучи неразрывно связанным с осознанным мышлением, существенно влияет на содержательные параметры последнего, в определенных случаях приобретая даже решающий характер. Поэтому несомненной заслугой Т. Куна следует считать его попытку обосновать действительную эвристическую роль предпосылочного знания в научно-исследовательском процессе.
К числу предпосылочных знаний можно, на наш взгляд, отнести содержание знаний философского уровня, которые не ставят задачи конкретного изучения, например, биологических явлений или квантово-механических процессов, но ее положения и установки в конечном счете оказывают несомненное влияние на развитие этих исследований. При этом безразлично, происходит ли это осознанно или неосознанно. В каждом конкретном случае это происходит по-своему. Как правило, исследователь, особенно практик, не очень задумывается над этими философскими предпосылками, о чем еще в XIX в. говорил Ф. Энгельс в своей работе «Диалектика природы».
Как показывают исследования современных науковедов, уровень философских предпосылок в научном познании связан со многими обстоятельствами и детерминантами. Едва ли кто-либо будет отрицать, что утвердившаяся в науке XVIII в. механистическая парадигма существенно влияла на развитие естественных наук, захватив даже обществознание и инициировав механистические тенденции в социологии и возникновение социобиологизаторских идей. На этот счет можно привести массу доказательств, но мы ограничимся высказываниями лишь видных ученых XX в., которые специально выделяли связь научного знания с философскими предпосылками. В частности, Л. Бриллюэн писал, что ученые всегда работают на основе «некоторых философских предпосылок», и, хотя многие из них могут не осознавать этого, эти предпосылки в действительности определяют их общую позицию в исследовании. Это напоминает заявления Ф. Энгельса, сделанные в «Диалектике природы» еще в XIX в. в связи с тем, что многие ученые того времени также отрицали свою приверженность к философским знаниям, в результате чего, подчеркивал Ф. Энгельс, они оказывались в руках самых худших философских идей.
Так же как Л. Бриллюэн, значение философских предпосылок для науки подчеркивал великий физик современности А. Эйнштейн. Он достаточно настойчиво утверждал их необходимость и говорил, что без философских положений гносеологии наука становится, как правило, «примитивной и путанной».
С концепцией неявного знания в науке тесно связана и теория личностного знания М. Полани. Как известно, он решительно выступил против убеждений, что наука может существовать без познающего субъекта. Он ввел в основание науки антропологическую составляющую, доказывая, что действительный идеал научного знания невозможен без учета личностного характера творческой деятельности ученого. Критикуя депер-сонифицированный подход к научному творчеству в эпистемологической литературе, М. Полани смело провозглашает необходимость учета личностных мотивов и причин, а также интересов ученого вплоть до проявления психических свойств личности. Он, в частности, утверждал, что искусству познавательной деятельности нельзя научиться по учебникам, потому что оно передается в непосредственном общении с ученым, творцом [4]. Более того, он считал, что главным моментом, определяющим принятие ученым той или иной научной теории, является не степень ее критического обоснования, ее сознательного соотношения с принятыми в науке нормативами и установками, а исключительно степень личностного «вживания» в эту теорию, уровень доверия к ней. Естественно, что важную роль приобретает здесь категория веры, которую М. Полани выводит чуть ли не на высший уровень, объявляя ее фактически центральной. Само приобщение человека к науке он трактовал как акт некоего «личного обращения» ученого по аналогии с обращением в веру религиозную.
Таким образом, несомненной заслугой М. Полани является то, что он обратил внимание ученых всего мира на факторы, существенно влияющие на характер научного познания, его исходные основания, содержание и выводы, которым в период классического «объективистского» объяснения механизма научного познания не уделялось достаточного внимания, либо они совершенно игнорировались. Мы же считаем его замечания совершенно верными, если их не гипертрофировать и односторонне не абсолютизировать.
-
1. Полани М. Неявное знание. М., 1962.
-
2. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1996. С. 283.
-
3. Кун Т. Структура научных революций. М., 1962.
-
4. Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М., 1985. С. 105.
Список литературы Роль неявного знания в познавательном процессе
- Полани М. Неявное знание. М., 1962.
- Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1996. С. 283.
- Кряклина Т.Ф., Детков А.П. Оценка знаний и оценка компетенций: общее и особенное//Мир науки, культуры, образования. 2009. №4. С. 119-122.
- Кун Т. Структура научных революций. М., 1962.
- Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М., 1985. С. 105.