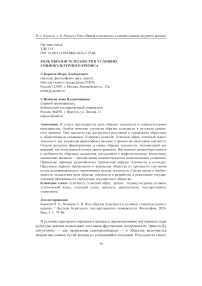Роль образов телесности в условиях социокультурного кризиса
Автор: Борисов И.А., Немцева А.В.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется роль образов телесности в социокультурном пространстве. Особое значение уделяется образам телесности в ситуации кризисного времени. Они мыслятся как инструмент регуляции и управления обществом и общественным сознанием. Уточнены понятия: телесный образ, телесный идеал, телесность как социально-философское явление в ценностно-смысловом контексте. Описан механизм формирования и смены образов телесности, подчиненный как внешней, так и внутренней логике своего развития. Внутренняя логика берет начало в особенностях образного мышления, восходящего к мифологическому алогичному мышлению; внешняя - продиктована экономическими и политическими условиями. Приведены примеры разнообразных проявлений образов телесности в культуре. Предложен вариант преодоления и выведения общества из кризисного состояния путем целенаправленного продвижения границ телесности. Сделан вывод о необходимости осмысления роли образов телесности в разработке и реализации государственной программы по укреплению государства и общества.
Телесность, телесный образ, кризис, социокультурные условия, эстетический идеал, ценность, манипуляции, государственное управление
Короткий адрес: https://sciup.org/148329887
IDR: 148329887 | УДК: 141 | DOI: 10.18101/1994-0866-2024-3-79-86
Текст научной статьи Роль образов телесности в условиях социокультурного кризиса
Борисов И. А., Немцева А. В. Роль образов телесности в условиях социокультурного кризиса // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2024. Вып. 3. С. 79–86.
В условиях кризисного времени в процессе перекомпоновки внутреннего ядра культуры человек испытывает состояние фрустрации, потерянности, тревоги [4], интуитивно — как проявление самоорганизации — в обществе включаются механизмы поиска путей выхода из сложившейся ситуации. Результатом такого поиска является естественная потребность человека обрести внутреннюю субъективную устойчивость и внешнюю объективную стабильность. Этот механизм поиска путей выхода из кризиса выражается в том числе и в воспроизводстве и/ или создании тех или иных образов телесности. Под телесностью мы будем понимать тело, выходящее за границы своего физического распространения посредством смыслообразования в конкретном социокультурном пространстве. Этот процесс представляет собой кодировку смыслового содержания в знаково-символической образной форме. Материальное воплощение этих образов зависит от социокультурных условий: уровня знаний, исторических событий, экономического и политического развития и пр. По существу, такая воплощенная телесность есть одна из моделей мира, в которой как в культурном тексте заключены ценностные ориентиры, идеи, знания, образцы поведения, т. е. исторический опыт. Сам же телесный образ может пониматься как некая идеальная модель, поскольку являет собой мысленный конструкт, построенный с помощью образов и воспроизводящий существенные свойства реальных объектов, это есть нечто воображаемое, предполагаемое, желаемое о теле. Отличительной особенностью телесного образа является выраженная эстетическая нагруженность. Эстетическое вносит свои правила, каноны и законы в формирование и воплощение телесного образа, а социокультурные условия продолжают диктовать свои. Они задают тренд исходя из соответствующей системы ценностей и мировоззренческих принципов конкретного периода.
Телесные образы формируются на основе синтеза разнородных ценностных представлений, как этических так и эстетических, а также имеющихся тенденций в действительном социальном бытии и поиске новых моделей телесности, стремящихся в конечном итоге к телесному идеалу (исторически выработанное единое устойчивое образование, фиксация которого ознаменовывает, что общество преодолело кризис, т. е. вышло на относительно стабильный этап своего существования). А большое разнообразие телесных образов в одно и то же время, их смена и трансформации таким образом являются свидетельством поиска путей выхода из кризисного состояния общества.
Каждый новый этап общественного существования и функционирования телесности напрямую сопряжен со сменой всей системы ценностей: эстетических, этических, религиозных и пр., соответственно, и сменой телесного идеала. Поскольку в каждом телесном идеале заложены причины его трансформации, связанные с подвижностью границ телесных образов, восходящих к первобытному алогичному типу мышления, для которого характерно слияние, наложение, существование одного через другое, а каждый обособленный и замкнутый в себе объект есть образ чего иного, то избежать смены телесного идеала невозможно. «Представление о нормативных границах телесности вырабатывается в ходе развития социума, оно является итогом социальных поисков, отражающихся в правовых актах, этических и эстетических принципах и других социальных реакциях. Кроме того, представления о социальной норме и отклонениях от нее исторически изменчивы и зависят от стереотипов, господствующих в обществе в определенную эпоху» [4, с. 51]. Эта смена телесного идеала объясняется единством взаимообусловливающих процессов дифференциации и интеграции. Смена телесного идеала может противостоять общественной морали, но в таком случае общество будет претерпевать конфликт между эталонным телесным идеалом и этикой. Этот конфликт с моралью есть проявление действия дифференциации и порождает разнообразие вариантов телесных образов, а устраняет или гасит конфликт процесс интеграции, в этот момент плюрализм телесных образов сменяется одним устойчивым вариантом — телесным идеалом.
В настоящее время, оценивая состояние российской действительности, можно обнаружить инвариантность телесного идеала. Сам процесс смены телесного идеала оказывается не простым повторением циклов или сменой одних этапов другими, а приобретением новых смыслов и средств их выражения, адекватных духу времени, но сохраняющих устойчивые, т. е. традиционные элементы в культуре, которые определяют самобытность и узнаваемость образов телесности и телесных идеалов вне зависимости от исторического времени.
Век цифровизации вносит свои корректировки во все сферы социального бытия, в том числе и в телесные практики: от формирования нового образа до его репрезентаций. Тело как нечто видимое и телесность как нечто считываемое за границами тела мыслятся как инструмент визуализации и демонстрации. Поскольку цифровизация в глобальном плане является концепцией экономической деятельности, поэтому и телесность здесь становится монетизируемой и выставляемой напоказ. Конечно, демонстрация телесности имела место всегда, например практики наказания и дрессуры через тело, описанные в трудах М. Фуко «Наказывать и надзирать. Рождение тюрьмы», «Воля к истине. По ту сторону знания, власти, сексуальности». Для чего нужны были дисциплинарные меры в прошлом? По существу, это было управление устрашением: нанести моральное страдание через физическое, через боль. Тело всегда подвергалось болезненным репрессиям, и в современной культуре этот страх, наверное, можно считать генетическим, он вылился в желание не испытывать физическую боль никогда. Этот факт используют фармацевтические компании в своей рекламе как манипуляционный прием, цель которого заключается в достижении экономической выгоды — создание и применение широкого спектра дорогостоящих лекарственных препаратов от боли. Цели конструирования телесности, которая выставляется напоказ, — контролировать, управлять и наживаться.
Исторически человечество измучено болью, не только связанной с наказанием тела, но и тяжелыми, мучительными и порой невыносимыми проблемами физического состояния. Эта потребность человека отражена в рекламе обезболивающих препаратов. В различных СМИ регулярно слышится: «боль», «головная боль», «все виды боли» и пр. с призывом приобрести лекарственное средство, избавляющее от нее. Людям внушают мысль о том, что у них что-то болит, должно болеть, и фиксируют таким образом наше внимание на ощущениях дискомфорта в своем теле. Здесь и появляется страх и установка: не чувствовать боль, а значит, не чувствовать тело. Но тело несовершенно, полностью избавиться от болезненных ощущений, процессов старения невозможно, поэтому возникает желание в конечном счете его заменить на искусственное, чтобы никогда не было больно. Новые технологии и роботизация дают такую возможность «печатью» органов на 3D принтерах, протезированием и пр. Создание искусственного тела и его частей дает возможность максимального контроля над телом и мыслями, при этом, прикрываясь заботой о теле, мы сталкиваемся с проблемой отключения критического мышления. Такое бездумное, слепое, рабское состояние сознания является ключевым условием для манипуляции в реализации закона спроса и предложения. Например, на этом держится индустрия красоты, и чтобы она эффективно функционировала и приносила прибыль, необходимо спровоцировать потребность как спрос, в данном случае внушить человеку, что он некрасив, уродлив, и он как раз тот случай неудачного «эксперимента» природы, т. е. заданную природой норму целенаправленно оценивать в категориях безобразного. Эстетической нормой воспринимается все то, что регулярно попадает в наш зрительный ряд, а то, что из него выбивается, автоматически попадает и оценивается нами как уродство и пр. А регулярно в наш зрительный ряд попадают образы телесности с обложек журналов, рекламных плакатов, телевидения и интернет страниц и пр. — это такие образы, которых в реальности не существует. Наблюдать самих себя со стороны нам практически не приходится, и если удается несколько раз подойти к зеркалу, но когда подходим, то видим не тот образ, который хотели бы, — пугаемся, видим в отражении урода, которого срочно нужно переделать под заданную бьюти-сообществом норму.
До каких пределов можно дойти в преобразованиях своего тела? Таким образом ставит вопрос А. В. Немцева в книге «Этические ориентиры в теории и практике телесности» [5]. Где проходит та граница, после которой «привлекательное/ красивое/прекрасное» становится отпугивающим/страшным/безобразным, будь то сферы красоты, трансплантологии, трансгендеризации и пр.? В период, когда отрасли красоты претерпевают так называемый «дефолт», т. е. удешевляются, мы наблюдаем активизацию рынка трансплантологии и трансгендеризации с теми же целями обогащения и манипуляционными приемами. При включении масштабного финансового потока и денежного оборота морально-нравственная составляющая уходит на дальний план. Порой создается впечатление, что она намеренно изгоняется из социального бытия. Преодолеть сложившуюся ситуацию возможно, поставив вопрос о допустимых нормативных границах, подробно описанных А. В. Немцевой в статье «Границы телесности: понятие и значение», что дает возможность «анализировать телесность в контексте социокультурного пространства, как элемент устройства общества, составную часть социальных связей. Наиболее плодотворным, на наш взгляд, является изучение телесности как особого типа целостности, характеризующегося подвижными границами, позволяя человеку в той или иной степени резонировать с миром» [4, с. 50].
Резонирует с миром человек по-разному, как на социальном, так и на индивидуально-личностном уровнях. Любой образ, как полагал Г. Гегель, «стоит посередине между непосредственной чувственностью... и ...мыслью» [3, с. 385], особую значимость имеют образы телесности, так как они являются тем инструментом, с помощью которого можно управлять связью мысленного и чувственного, инструментом, отталкиваясь от которого можно оказывать влияние как на духовный, так и физический план социокультурного бытия. Роль образов телесности — преобразить фрагмент социокультурной реальности и саму реальность в целом, раскрыть взаимопроникновение самых различных уровней бытия с тем, чтобы осуществиться в интеграции социальных ролей личностей и приблизиться к целостности человека, одновременно расширив его социальное пространство.
По большому счету все эти многочисленные практики по изменению образа телесности есть попытки обрести устойчивость в кризисное (неустойчивое) время, это есть поиск самоидентификации культуры и человека в социокультурной реальности [2]. Если телесность изменила свое воплощение, то это свидетельствует, что перекомпоновка ядра культуры свершилась — кризисное время сменилось относительной стабильностью и какое-то время данный образ телесности тоже будет относительно стабильным. А очередной кризис будет означать, что перекомпоновки будут происходить с телесностью. Нестабильность телесного образа, в свою очередь, проявляется в социокультурном кризисе. В реальности это можно наблюдать в смене художественного стиля, смене эстетического идеала, появлении новых направлений в искусстве и литературе, примером может послужить смена стиля при строительстве собора Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris). Собор задумывался и начинался как романская крепость, но в процессе длительного строительства, смены власти, мировоззрения завершен уже был в готическом стиле и стал ярким его примером в архитектуре и скульптуре.
Можно различать телесность человеческую и социальную, частью которого является телесность конкретного человека.
В традиционном обществе человек прикреплен к месту: земледелец в буквальном смысле старается не покидать границ поселения; скотовод кочует по строго определенной траектории. В обществе модернизирующемся, на переходе от традиционного к индустриальному, люди оказываются в хаосе перемещений. И в этом хаосе путей-дорог человек пытается найти или создать для себя устойчивые ориентиры. И в качестве этих устойчивых ориентиров стали выступать памятники общественным и политическим деятелям как образы телесности. В каком бы поселении/месте/местности человек не оказался, можно встретить улицу имени Ленина и памятник Ленину. Чаще всего мы видим скульптурные памятники и образы в живописи, где Ленин изображен с жестом, указывающим направление пути. В его осанке и путеводном жесте люди считывают уверенность, что вызывает доверие, создает опору и надежду, что мы избрали верный путь. Жест руководящий, указующий верное направление, политический курс. Подобно дирижеру, который руководит оркестром, фигура Ленина — это фигура директивных указаний, которые лежат в основе всей советской социальной системы, ее экономики, политики и идеологии. Жест забетонирован, зафиксирован в камне, в бронзе. Скульптура передает движение, она динамична, но эта динамика зафиксирована в материале. Жест — это социализированное движение, это так называемые семантические движения, они обозначают утверждение, повеление, просьбу, согласие и т. п. Это близкий русской культуре архетип пути — элемент коллективного бессознательного, содержащий идею трансформации через перемещение в пространстве и времени. Он может быть осознан и осмыслен только лишь через символы. В ситуации социального кризиса коллективное бессознательное запускает механизм компенсации. Он заключается в том, что архетип пути активизируется и порождает бинарную символическую пару, которая осознается уже субъектом — человеком или коллективном: символ пути, ведущий к жизни, и символ пути, направленный к смерти» [1, с. 134]. Но фиксация образов телесности возможна не только в произведениях искусств или эталонах красоты человека, но и в идеологии, системе ценностей, научных открытиях (модель идеального газа, кристаллической решетки и пр.), потому что здесь происходит фиксация границ телесности за счет фиксации смысла. В ходе исторического развития образов телесности меняется соотношение ее основных границ: предметных (границ распространения в пространстве) и смысловых (внешнего и внутреннего), они то тяготеют к равновесию и слиянию, то разделению и борьбе, то к одностороннему преобладанию. Существующий кризисный вариант телесного идеала скорее является псевдо-идеалом, т. е. таким, чему в реальности ничего не соответствует. Заданная природой норма варьируется в своих значениях, тогда как псевдо-образ телесности настаивает на определенном стандарте, который становится заданием для пластической хирургии. Именно разрыв между заданной природой нормой и социальным псевдо-идеалом порождает огромную часть проблем современного человека.
Новый телесный идеал, тот, который поможет обществу выходить из кризиса, будет много больше естественным, много больше реальным и много больше человекоподобным.
Телесный идеал, являясь знамением выхода из кризиса, а многообразие телесных образов — аллегорией или свидетельством поиска путей выхода из кризисного состояния общества, то телесный идеал и телесные образы могут мыслиться как инструменты преодоления этого сложного времени. Этот процесс управляемый, мы может регулировать как сам ход выхода из кризиса, так и его длительность путем сознательного воздействия на формирование телесного идеала, сознательно целенаправленно смещая, двигая границы (этические, нормативные, символические, эстетические и др.) телесного образа. С помощью образов телесности мы облегчаем или усложняем восприятие и понимание реальности. Внушаемость, манипу-лятивность в отношении человеческого облика (кто он? как выглядит? и пр.) — это тот рычаг эффективного управления, подчинения и регулирования социальными процессами. Соответственно возможен и другой процесс, так называемая манипуляция «во благо» государства и человечества, в конечном итоге направленная на сохранение целостности, самобытности и пр. Для этого необходимо разработать на государственном уровне программу практической реализации, но реализовываться эта программа должна «снизу» — с реальных практических действий по трансформации образов телесности, т. е. «подгонки» границ телесности под соответствующую систему ценностей, духовные ценности русской культуры. Первостепенной задачей в этом процессе трансформаций видится принятие себя, разумное преодоление неприятия по отношению к своему телу. С чем связана такая значимость телесности и ее образов в общественном сознании, в его управлении и регуляции? Телесный образ, выполняющий функции образа вообще, «одним ударом заставляет пересмотреть целую Вселенную» (высказывание Луи Арагона), в этом заключается его неимоверная сила.
Список литературы Роль образов телесности в условиях социокультурного кризиса
- Борисов И. А., Немцева А. В. Архетип пути: социально-философский анализ // Общество: философия, история, культура. 2023. № 11(115). С. 133-138. Текст: непосредственный. EDN: ZNAKFK
- Борисов И. А., Кирьянова О. А., Немцева А. В. К вопросу о синергетическом обосновании кризиса как социокультурного явления // Общество: философия, история, культура. 2023. № 4(108). С. 58-62. Текст: непосредственный. EDN: BUXFBI
- Гегель Г. В. Ф. Эстетика: в 4 томах. Москва: Искусство, 1968. Т. 1; 1971. Т. 3. Текст: непосредственный.
- Немцева А. В. Границы телесности: понятие и значение // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер. Познание. 2021. № 11. С. 50-53. Текст: непосредственный. EDN: LOXXKW
- Немцева А. В., Ткачева М. Л. Этические ориентиры в теории и практике телесности // Успехи современной науки и образования. 2017. Т. 6, № 3. С. 108-111. Текст: непосредственный. EDN: YKTCRR
- Фуко M. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / перевод с французского В. Наумова; под редакцией И. Борисовой. Mосква: Ad Marginem, 1999. 480 с.
- Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти, сексуальности. Москва, 1996.Текст: непосредственный.