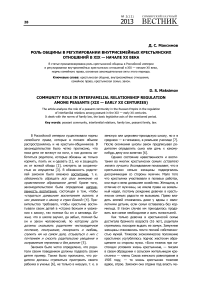Роль общины в регулировании внутрисемейных крестьянских отношений в XIX — начале XX века
Автор: Максимов Дмитрий Сергеевич
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 2 (12), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирована роль крестьянской общины в Российской империи в регулировании внутрисемейных крестьянских отношений в XIX — начале XX века, нормы семейного права, основные законодательные акты этого периода.
Крестьянская община, внутрисемейные отношения, семейное право, крестьянская семья, закон
Короткий адрес: https://sciup.org/14113764
IDR: 14113764
Текст научной статьи Роль общины в регулировании внутрисемейных крестьянских отношений в XIX — начале XX века
В Российской империи существовали нормы семейного права , которые в полном объеме распространялись и на крестьян-общинников. В законодательстве было четко прописано, что пока дети не встанут на ноги, о них должны заботиться родители, которые обязаны не только кормить, поить их и одевать [1], но и защищать их от всякой обиды [2], смотреть за сохранностью их имущества [3]. В обязанность родителей законом было вменено воспитание, т. е. обязанность обращать все свое внимание на нравственное образование детей. Кроме того, законодательством была определена направленность воспитания, состоящая в том, чтобы «стараться домашним воспитанием вселить в них уважение к закону и страх Божий» [4]. Правительство требовало, чтобы крестьяне воспитывали своих детей в «страхе Божьем и уважении к закону, так помнил бы он и заповедь Божью , что в школе заучил, да забыл, помнил бы он и закон человеческий, по которому дети должны оказывать родителям чистосердечное почтение, послушание, покорность и любовь, служить им на самом деле, отзываться о них с почтением и сносить родительские увещания и исправления терпеливо и без ропота » [5].
Законом было четко определено, что родители своим поведением должны подавать своим детям пример. Также было прописано, что родители должны стремиться пристроить своего ребенка в ученье [6], не только в низшую, т. е. в земскую или церковно-приходскую школу, но и в среднюю — в гимназию, в реальное училище [7]. После окончания школы закон предписывал родителям определить сына или дочь к какому-нибудь делу или занятию [6].
Однако состояние нравственности и воспитания во многих крестьянских семьях оставляло желать лучшего . Исследование показывает, что в крестьянских семьях женщины подвергались дискриминации со стороны мужчин. Мало того что крестьянки участвовали в полевых работах, они еще и вели домашнее хозяйство. Женщина, в отличие от мужчины, не имела права на земельный надел, поэтому рождение девочек в крестьянских семьях радости не вызывало. Право владеть землей отнималось даже у вдовы с малолетними детьми, если семья оставалась без кормильца. В таком случае им приходилось продавать все самое необходимое и жить милостыней.
Как только девочка в крестьянской семье достигала брачного возраста (16 лет), родители стремились поскорее выдать ее замуж. Замужние женщины становились почти полной собственностью мужей. Тяжелое экономическое положение крестьянок усугублялось подчас жестоким обращением со стороны мужа. «Если тяжела при настоящих условиях жизнь крестьянина, — писали в своем обращении к сельским жительницам крестьянки — члены Союза женского равноправия в 1905 году, — то жизнь крестьянки тяжелее вдвое, втрое. Законом она отдана под власть му- жа, не имея своего паспорта: муж бьет часто смертным боем, и никто не защитит ее… Законом же она лишена душевого надела, словно женщина не человек, словно ей и кормиться не надо» [8]. В деревнях, где считалось нормальным бить и оскорблять жену, деспотизм и мужская неверность в отдельных случаях толкали крестьянок на убийство своих «тиранов».
Тяжелые условия труда и жизни приводили к высокому уровню детской смертности. В основном дети погибали при родах и в первые 2—3 года жизни, так как медицинская помощь на селе практически отсутствовала. В 1900 году на 2 млн крестьянского населения в Поволжье приходилось всего 29 повивальных бабок, а в 1904 году — 27 [9, л. 33]. Так как на селе никогда не слышали о методах контрацепции, а девушки рано выходили замуж, то к 25-летнему возрасту у них уже было по 5—6 беременностей. В среде крестьян выкидыши и высокий уровень детской смертности были обычным явлением. Кроме того, в бедных семьях дети мешали родителям, которые не могли их прокормить. Число женщин-детоубийц увеличилось с 1900 по 1904 гг. на 167 % [9, л. 34]. Имели место и случаи самоубийств.
Судьба крестьянок даже из середняцких и зажиточных семей была нелегкой. Тяжелая работа и почти постоянные беременности быстро приводили к преждевременной старости и болезням. По сведениям одного из саратовских врачей на конец ХIХ — начало ХХ века, в деревнях «редко попадаются молодые и красивые женщины. Обычно свежие и здоровые девушки через 5—7 лет замужней жизни быстро делаются 40-летними» [9, л. 34].
Доходы крестьянских семей в основном были небольшими, если не сказать скудными, но женщина имела право на приданое и заработанные ею деньги. Заработать можно было, нанимаясь на поденную работу к помещику. Здесь в отношении оплаты мужчин и женщин наблюдался тот же принцип, что и в рабочей среде: заработок крестьянки был чуть ли не вдвое ниже. Так, на территории Симбирской губернии средняя поденная плата для мужчин в зимнее время составляла 29 коп., для женщины — 16 коп. В летнюю пору мужчине платили 52 коп., женщине — 34 коп. [10, с. 66].
Нелегкие жизненные условия толкали мужчин-крестьян к рукоприкладству по отношению к жене и детям, в деревнях процветало пьянство, мелкое воровство, пьяные оргии и массовые драки. Законы, составляющие в российской деревне семейное право, выполнялись в крестьян- ской массе неудовлетворительно, хотя законодательство предусматривало за их нарушение суровые санкции [11].
Законодательством были строго оговорены брачно-семейные отношения. Мужчины имели право вступать в брак с 18 лет, а женщины — с 16 лет [12]. На вступление в брак не требовалось ничьего разрешения, кроме согласия родителей [13]. Однако давая право родителям разрешать или запрещать брак детям, закон в то же время строго карал родителей за злоупотребление своей властью, за принуждение детей вступать в брак. За это полагалась тюрьма, назначалось церковное покаяние [14]. Получив родительское благословение, крестьянин обращался к своему приходскому священнику [15], который был обязан его обвенчать в случае отсутствия законных препятствий к заключению брака. Препятствием к заключению брака могли быть следующие случаи: не имел права жениться уже женатый [16]; не имел права жениться вдовец после третьего брака [17]; не мог жениться гражданин, если ему было более 80 лет от роду [18]; священник не имел права регистрировать брак с сумасшедшей [19], близкой родственницей [20]; категорически запрещалось бракосочетание, если жених либо невеста не согласны на брак [14].
Законом было определено, что брак ни в коем случае не мог быть расторгнут только потому, что супруги не «желают жить вместе» [21], даже если они разъезжались и жили врозь, то все равно они считались мужем и женой [22]. В законе было определено, что супруги должны всегда жить вместе, жена обязана была следовать за мужем при перемене места жительства [23]. В законе были четко прописаны обязанности супругов по отношению друг к другу. Муж был обязан любить жену как «собственное тело», жить с ней в согласии, защищать, извинять ее недостатки и проступки, облегчать ей немощи, доставляя ей пропитание и содержание по силе возможности [24]. Были строго прописаны и обязанности жены — любить и почитать мужа как главу семьи, угождать ему в качестве хозяйки дома и повиноваться ему [25], даже более чем своим родителям [22].
Однако закон, регламентирующий внутрисемейные отношения, строгий по форме, был весьма мягок по содержанию. Он не допускал рассмотрения в суде жалоб одного супруга против другого об оскорблении [26]. Муж подлежал наказанию, если он истязал жену или слишком жестоко, из мести, ее бил . Только в этом случае он отвечал перед судом исключительно за самоуправ- ство [27]. Такая непозволительная «мягкость» со стороны закона приводила к повсеместному процветанию в деревнях самого безобразного и беспощадного битья жен; мужья требовали, чтобы жены чуть ли не на следующий день после родов выходили работать в поле и т. д.
Таким образом, внутрисемейные отношения были регламентированы законом, а первичный контроль за их исполнением был возложен на крестьянскую общину — мир. В этом также заключались правовые функции крестьянской общины по регулированию внутрисемейных отношений в крестьянской среде. Рассмотрим, как это осуществлялось на практике.
В законе было определено, что каждый супруг имел право распоряжаться своим личным добром, полученным в приданое или другим способом [28]. Всякий спор между супругами разрешался Судом [29], и ни общинный староста, ни старшина не имели права отобрать имущество у одного и отдать его другому. При получении отдельного паспорта, если муж не отдавал жене принадлежащее ей имущество, она должна была обратиться в Суд. Если Суд присуждал мужу возвратить жене ее вещи, а он все-таки не отдавал, в дело имел право вмешаться староста, старшина. Если и это не действовало, к делу подключался полицейский урядник или административная волостная или уездная власть. То есть община выступала в качестве исполнителя судебных решений на низовом уровне .
Община вмешивалась в имущественные внутрисемейные отношения в тех случаях, когда муж-крестьянин незаконно выгонял жену из дома и отказывался отдавать принадлежащее ей имущество. Старосте и старшине общины было предоставлено законом право наказать мужа-хулигана за беззаконие и безобразие [30], в то время как дело о разделе имущества ни общинное начальство, ни общинный сход не имели права затрагивать, так как оно должно было разбираться только в суде. Если имущественные претензии в сумме не превышали 300 рублей, то подобные дела рассматривались в Волостном суде [31]. Если денежные претензии превышали эту сумму, то дела рассматривались на Уездном Съезде Мировых Судей, а в особых случаях — в окружных судах.
Следует особо указать на то, что руководство общины, как и крестьянский сход, наказывая хулигана, выгнавшего жену на улицу, не имело возможности вернуть жену в семью в случае раскаи-вания мужа, изгнавшего супругу, если она сама категорически отказывалась это сделать. Вернуть жену мужу по его иску в семью имел право только Окружной суд [32]. Положение дел в значитель- ной мере осложняли «прорехи» в законодательстве, в котором не было четко прописано, кто из супругов должен был содержать детей, если жене выписывался отдельный паспорт. В законе об этом напрямую не говорилось, однако нередко суды выносили по этому поводу вердикты, суть которых состояла в том, что после того как муж выгонял из дома жену, содержание детей возлагалось именно на него как на главу семьи [33], при этом женщина была вынуждена уходить от детей, что также нередко заставляло ее стойко терпеть от мужа издевательства и побои .
Другим сдерживающим женщин фактором было то, что, даже получив отдельный от мужа паспорт, супруги де-факто продолжали оставаться таковыми. Бракоразводный процесс был долгим, мучительным и не всегда заканчивался разводом. Брак мог быть прекращен исключительно по решению особого Духовного суда, и развод предоставлялся супругам крайне неохотно. Духовный суд имел право дать супругам развод только тогда, когда этого желала одна из сторон, т. е. один из супругов. Духовные судьи очень долго, в течение нескольких лет, старались увещевать непримиримых супругов, стремились вновь соединить их в совместной жизни. Развод мог состояться достаточно быстро в случае доказанного прелюбодеяния одного из супругов, неспособности одного из супругов жить в браке, ссылки одного из супругов в Сибирь с лишением имущественных прав и более чем 5-летнего отсутствия без вести одного из супругов. Других поводов и способов развода в законе не было [34]. То есть поводом для развода не могло быть признано издевательство одного супруга над другим, поэтому многие годы бывшие супруги жили отдельно, не имея возможности оформить развод и повторно законно выйти замуж или жениться.
На крестьянскую общину было также возложено право регулирования некоторых внутрисемейных имущественных отношений членов крестьянской общины.
Чтобы понять, о регулировании каких внутрисемейных отношений крестьянской общиной идет речь, рассмотрим сущность крестьянских внутрисемейных отношений. Главой крестьянской семьи законодательно был определен отец, он считался хозяином своего дома. Домохозяин самостоятельно вел общее хозяйство, а младшие члены семьи как участники в этом общем хозяйстве, имеющие в нем свою, пока не выделенную еще часть, должны были поддерживать это общее хозяйство трудом, если жили дома, или же деньгами, если жили на стороне.
Дети считались младшими членами семьи даже в том случае, если они были взрослыми. Только после смерти отца (а иногда и матери) главой семьи, домохозяином становился один из сыновей, как правило, старший. Нередко главу семьи в своем завещании определял отец, сообщая о своем решении общинному старосте. После смерти родителя старшему сыну переходили все права отца по распоряжению имуществом двора, а все прочие члены семьи считались ее младшими членами [25].
Законом была определена главная разница между домохозяином и младшими членами семьи. Она состояла в том, что домохозяин самостоятельно, по своему усмотрению распоряжался общим имуществом двора и не спрашивал об этом согласия младших членов семьи. Единственным случаем, когда младшие члены семьи могли ему возразить по вопросам, касающимся пользования общим имуществом семьи, могло быть такое распоряжение домохозяина, которое было явно невыгодно для всего двора, всей семьи, нецелесообразно в хозяйственном отношении [35]. Только тогда младшие члены семьи по закону имели право заявить свое неудовольствие сельскому сходу, который имел право воспретить домохозяину «неправильное» распоряжение имуществом, если, по мнению сельского схода, решение домохозяина явно ведет к расстройству его хозяйства [36].
Закон стоял на страже интересов домохозяина. Именно из-за этого ни один младший член неразделенной семьи не имел права получить паспорта без согласия домохозяина. С согласия общества и разрешения Земского Участкового Начальника домохозяин имел право даже отобрать через полицию уже выданный младшему взрослому члену семьи паспорт и требовать выхода младшего члена семьи на работу, хотя бы временно, до принятия окончательного решения по этому делу в суде [37]. Эта мера была оправданна, так как нередко были случаи, когда один из сыновей, уходя на заработки, несмотря на данное письменное обязательство, не высылал никаких денег долгое время. Крестьянин, в отсутствие столь необходимого работника, платил деньги в виде податей за сына и даже нанимал временного работника. После же смерти отца непутевый сын моментально появлялся и требовал себе равную часть с братьями, которые, в то время как он гулял на воле и если что и нажил, то только на себя, а не на общий двор, работали на общее хозяйство. А если он являлся еще и старшим сыном, то мог и все имущество семьи забрать в свои руки.
Однако община могла принять и другое решение, а Участковый Земский Начальник ее в этом нередко поддерживал. Если крестьянская община ходатайствовала перед Участковым Земским Начальником о злоупотреблении домохозяином своего права в воспрещении получения паспорта своим членам семьи, то он, руководствуясь законом, принимал решение о выдаче младшим членам семьи паспорта без согласия домохозяина и даже против его воли. Такие распоряжения Земского Начальника являлись окончательными и не подлежали со стороны домохозяина обжалованию [38].
Когда община и Участковый Земский Начальник становились на сторону членов семьи домохозяина? Законом подразумевались случаи, когда домохозяин желал по своему капризу «согнать» сына с хорошего места работы или требовал с члена семьи за вольное жилье непосильную плату. Нередко община, защищая интересы домохозяина, ходатайствовала перед Волостным судом о присуждении с сына на поддержку крестьянства помесячной денежной платы. Тогда можно было наложить арест на жалованье младшего члена семьи и продать что-нибудь из его вещей на взыскание.
На крестьянскую общину было возложено поддержание порядка в отдельной крестьянской семье, как того требовали нормы закона. Крестьянин по закону не имел права свободно пьянствовать и растрачивать общее хозяйство. За это он мог быть наказан по жалобе младших членов семьи и по ходатайству общины Волостным судом, который мог телесно наказать пьяницу. Долгов без согласия домохозяина младшие члены семьи делать не имели права, а если делали, то отвечали за это сами. Однако если долг был сделан младшим членом семьи не для себя лично, а на общие нужды неразделенного двора, то такой долг мог быть изыскан с общего неразделенного имущества. Штрафы, наложенные судом на разные проступки, отец за сына не был должен платить [39]. С другой стороны, младший член двора не мог ни продавать, ни закладывать неразделенное имущество [40].
На крестьянскую общину были возложены обязанности по контролю за осуществлением внутрисемейных разделов. Община контролировала и на сходе одобряла эти процедуры. Если крестьянин-домохозяин желал выделить младшему члену семьи отдельную часть из общего имущества, он обращался в общину с просьбой дать своему сыну семейно-имущественный раздел, после которого тот уже образовывал отдельный двор, сам становился хозяином нового двора. Поэтому если сход считал, что полевой семьи недостаточно, недостаточно и усадьбы, и строительного места, то разрешался раздел. Делиться было можно лишь в том случае, когда каждый из разделенных был вполне обеспечен и землей, и скотом, и орудиями земледелия, и стройкой, в противном случае раздел был невозможен по закону и крестьяне не имели права на нем настаивать. Сход, приступая к разделу имущества отдельной семьи по закону, должен был придерживаться следующих условий: во-первых, имущества в обеих частях должно было быть достаточно не только для дележа, но и для исправного и недоимочного ведения отдельных хозяйств; во-вторых, община должна была удостовериться в основательном поводе для раздела; в-третьих, было необходимо согласие хозяина домовладения на раздел [41].
По закону в случае отказа главного домохозяина на раздел домовладения крестьянская община на своем сходе вообще не имела права поднимать этот вопрос. Однако закон предоставлял общине право производить раздел имущества крестьянского домовладения в том случае, когда сход признавал, что крестьянин вел жизнь безнравственную и расточительную [42]. Кроме того, община могла самостоятельно на своем сходе принять решение о разделе имущества крестьянской семьи в случаях, когда глава семьи за дурное поведение по приговору суда сидел в тюрьме или же между ним и младшими членами семьи шла постоянная вражда, которая делала совместную жизнь совершенно невозможной, а также и то выявленное сходом обстоятельство, что домохозяин тратил общее имущество исключительно на себя одного, из-за чего труды младших членов на общее дело не имели смысла, так как они ставились в положение батраков [43]. Прежде чем провести сход, старшина общины и мировой староста советовались с Земским Участковым Начальником, в противном случае он имел право отменить решение схода о разделе. Одновременно на отделившихся детей была возложена обязанность содержать родителей, если родители состарились и были не способны к труду, а также находились в состоянии бедности и болезни [44]. Эти правила были введены 18 марта 1886 года. Одновременно с их введением были признаны все незаконные разделы, свершившиеся до этого времени, начиная с 1861 года, когда все разделы осуществлялись исключительно по воле крестьянского схода [45].
Член делящейся семьи, недовольный разделом, даже самый младший [46], когда приго- вор был уже составлен обществом, имел право обжаловать его Земскому Начальнику в течение 14 дней. Рассмотрев эту жалобу и выслушав объяснения делящихся, Земский Начальник либо утверждал раздел, либо отменял его. Эти распоряжения Земского Начальника считались окончательными, и обжаловать их в Уездном Съезде мировых судей было нельзя [47]. Земский Начальник даже без всякой жалобы мог признать приговор сельского схода о разделе имущества незаконным, и тогда раздел мог быть отменен Уездным Съездом мировых судей [48]. Поэтому процесс расхождения в семьях начинали только после утверждения приговора крестьянского схода о разделении крестьянской семьи Участковым Земским Начальником.
На крестьянскую общину был также возложен надзор за тем, чтобы бывший глава домохозяйства, от которого произошло отделение нового домовладения, не вмешивался в дела нового хозяина, даже если тот был его сыном. Выделенный сын являлся уже домохозяином нового двора, жил и вел свое хозяйство самостоятельно , но , конечно , отец всегда оставался отцом , власть родительская прекращалась только со смертью родителей или с лишением ими прав, да и после смерти родителей дети обязаны были чтить их память по закону вечно [49].
Крестьянская община регулировала и наследственные отношения. По общему закону прямыми наследниками являлись дети, законные или узаконенные [50]. Усыновлять других лиц каждый крестьянин, так же как и члены других сословий, тоже имел право, с учетом исполнения следующих условий. Нужно, чтобы желающий усыновить ребенка не имел собственных детей, достиг не менее 30 лет от роду и чтобы разница в годах между ним и усыновляемым была не менее 18 лет. Для усыновления нужно было обязательное письменное согласие жены усыновителя, если он женат, родителей усыновляемого и его самого, если он старше 14 лет [51]. Кто усыновлял собственного незаконного ребенка, имел право жениться на его матери, а если он не мог по тем или иным причинам жениться на ней, то должен был получить ее обязательное согласие на усыновление ребенка [52] .
Участие общины в регулировании наследственных отношений в крестьянских семьях заключалось в том, что крестьянам, имеющим дочь, закон разрешал приписывать к себе в дом ее мужа без согласия на то своего общества. Порядок осуществления данной процедуры был следующим. Кто желал кого-либо усыновить, должен был получить метрики, свою и усынов- ляемого, от священника, собрать подписи о согласии на усыновление от всех лиц, о которых уже говорилось, в обязательном порядке испросить для усыновляемого увольнительный приговор его общества и все это представить в Волостное Правление или Земскому Начальнику вместе с прошением об усыновлении.
Однако община могла не разрешить подобное проживание в случае, если приемная семья отказывалась усыновить приемного мужа. Такие усыновленные мужья назывались «примаками» и имели право наследовать после усыновителя все его имущество и весь надел [53]. По общему же правилу усыновление должно было происходить с ведома, хотя и без согласия общества, к которому принадлежал усыновитель [54]. С другой стороны, усыновляемый вступал во все права члена семьи усыновителя и уже не имел никакого права на надел и имущество своих естественных родителей [55]. Усыновление для крестьян совершалось простой припиской усыновляемого усыновителем к своему семейству, которое совершается в Волостном Правлении путем записи в соответствующие книги с последующим извещением Казенной Палаты о перечислении оклада [56].
Таким образом, внутрисемейные отношения были регламентированы законом, а первичный контроль за их исполнением был возложен на крестьянскую общину — мир. В этом также заключались правовые функции крестьянской общины по регулированию внутрисемейных отношений в крестьянской среде в XIX — начале XX века.
-
1. Свод законов. 1900. Т. X. Ч. 1. Ст. 172.
-
2. Там же. Ст. 175.
-
3. Общественное Положение. 1902. Ст. 1. Прим. 1.
-
4. Свод законов. 1900. Т. X. Ч. 1. Ст. 173.
-
5. Там же. Ст. 177.
-
6. Там же. Ст. 174.
-
7. Общественное Положение. 1876. Ст. 29. П. 4.
-
8. ГАРФ. Ф. 516. Оп. 1. Д. 4. Л. 24.
-
9. Борисов А. Г. Положение рабочего класса и крестьянства накануне революции 1905 г. в Саратовской губернии // ЦДНИСО. Ф. 199. Оп. 1. Д. 83.
-
10. Шмыгин И. П. Большевистские организации Поволжья в борьбе за крестьянские массы в революции 1905—1907 гг. Ульяновск, 1962.
-
11. Уложение о наказаниях. 1885. Ст. 1591—1592.
-
12. Свод законов. 1900. Т. X. Ч. 1. Ст. 3.
-
13. Там же. Ст. 1, 6.
-
14. Там же. Ст. 12.
-
15. Там же. Ст. 25.
-
16. Там же. Ст. 20.
-
17. Там же. Ст. 21.
-
18. Свод законов. 1900. Т. X. Ч. 1. Ст. 4.
-
19. Там же. Ст. 5.
-
20. Там же. Ст. 23.
-
21. Там же. Ст. 46.
-
22. Там же. Ст. 108.
-
23. Там же. Ст. 103.
-
24. Там же. Ст. 106.
-
25. Там же. Ст. 107.
-
26. Решение Правительствующего Сената. 1869. № 551, 612, 1002 и др. (У.Н.Т. 234).
-
27. Там же. № 1522, 1870 и др. (У.Н.Т. 295).
-
28. Свод законов. 1900. Т. X. Ч. 1. Ст. 109—110, 114.
-
29. Решение Правительствующего Сената. 1883. № 20 (т. Х Б. 21).
-
30. Общественное Положение. 1902. Ст. 79, 104.
-
31. Там же. Ст. 125. П. 2.
-
32. Свод законов. 1900. Т. X. Ч. 1. Ст. 103; Р.П.С. 1883. № 20; Устав гражданского судопроизводства. Ст. 202.
-
33. Там же. Ст. 106—107, 172.
-
34. Свод законов. 1900. Т. X. Ч. 1. Ст. 45.
-
35. Решение Правительствующего Сената. 1892. № 41 (В. 348).
-
36. Там же. 1891. № 6484 (В. 193).
-
37. Положение о виде на жительство. 1895. Ст. 19, 27, 28, 55, 57.
-
38. Положение о виде на жительство. 1895. Ст. 19; Циркуляр МВД. 1903. № 21. 7 нояб.; Циркуляр МВД. 1900. № 3. 27 марта.
-
39. Решение Правительствующего Сената. 1886.
-
40. Свод законов. 1900. Т. X. Ч. 1. Ст. 183.
-
41. Общественное Положение. 1902. Ст. 40, 41.
-
42. Там же. Ст. 39.
-
43. Решение Правительствующего Сената. 1893.
-
44. Свод законов. 1900. Т. X. Ч. 1. Ст. 194.
-
45. Решение Правительствующего Сената. 1896. № 657; 1900. № 3967 (В. 44).
-
46. Там же. 1896. № 670 (В. 45).
-
47. Общественное Положение. 1902. Ст. 46.
-
48. Положение о Земских Начальниках. 1902. Ст. 31, 89.
-
49. Свод законов. 1900. Т. X. Ч. 1. Ст. 177—178.
-
50. Там же. Ст. 1121.
-
51. Там же. Ст. 145, 146, 149, 150, 155.
-
52. Там же. Ст. 144.
-
53. Свод законов. 1900. Т. X. Ч. 1. Ст. 146; Решение Правительствующего Сената. 1900. № 2183,
2819; 1901. № 371, 1439 (В. 37).
-
54. Решение Правительствующего Сената. 1895. № 504 (В.В. 190).
-
55. Решение Правительствующего Сената. 1892. № 28 (В.В. 190); 1901. № 31, 906, 1143 (В. 37); Свод законов по продовольствию. 1902. Ст. 157 // Свод законов. Т. X. 1902.
-
56. Свод законов. 1900. Т. X. Ч. 1. Ст. 155; Циркуляр МВД. 1902. № 27. 21 дек.; Указ Правительствующего Сената. 1888. № 1079 (В. 28).
№ 460, 3785; 1895. № 430 (В.В. 14).
№ 3797; 1901. № 2958.
Список литературы Роль общины в регулировании внутрисемейных крестьянских отношений в XIX — начале XX века
- Борисов А. Г Положение рабочего класса и крестьянства накануне революции 1905 г. в Саратовской губернии//ЦДНИСО. Ф. 199. Оп. 1.Д. 83.
- Шмыгин И.П. Большевистские организации Поволжья в борьбе за крестьянские массы в революции 1905-1907 гг. Ульяновск, 1962.