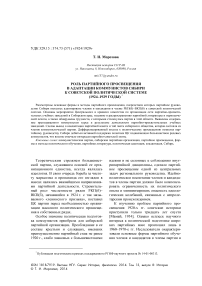Роль партийного просвещения в адаптации коммунистов Сибири к советской политической системе (1924-1929 годы)
Автор: Морозова Татьяна Игоревна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены основные формы и методы партийного просвещения, посредством которых партийное руководство Сибири пыталось адаптировать членов и кандидатов в члены РКП(б)-ВКП(б) к советской политической системе. Описаны мероприятия Центрального и краевого комитетов по организации сети партийно-просветительных учебных заведений в Сибирском крае, изданию и распространению партийной литературы и периодической печати, а также обнаружены трудности, с которыми столкнулась партия в этой области. Выявлены содержание преподаваемого коммунистам курса и результаты деятельности партийно-просветительных учебных заведений. Сделан вывод о коадаптации партийной власти и той части сибирского общества, которая состояла из членов коммунистической партии. Дифференцированный подход к политическому просвещению позволил партийному руководству Сибири добиться активной поддержки политики ЦК подавляющим большинством рядовых коммунистов, что вполне отвечало интересам партийно-советской элиты.
Партийная литература, формы и методы политического обучения, партийное просвещение, сибирская партийная организация, cибирь, политическая адаптация, коммунистическая партия
Короткий адрес: https://sciup.org/147219158
IDR: 147219158 | УДК: 329.15
Текст научной статьи Роль партийного просвещения в адаптации коммунистов Сибири к советской политической системе (1924-1929 годы)
Теоретическим стрежнем большевистской партии, служившим основой ее организационного единства, всегда являлась идеология. В свою очередь борьба за чистоту марксизма и пропаганда его взглядов в массах являлись важнейшими направлениями партийной деятельности. Стремительный рост численности рядов РКП(б)– ВКП(б), начавшийся в 1924 г. с так называемого «ленинского призыва», поставил ЦК партии перед необходимостью организации массового политического просвещения в собственных рядах.
Особое значение политическая подготовка коммунистов приобрела для сибирской партийной организации. Преобладание в ее составе крестьян и служащих, имевших преимущественно партийный стаж не ранее 1920 г., слабо знакомых с большевистскими идеями и не склонных к соблюдению внутрипартийной дисциплины, сделало партийное просвещение одной из центральных задач регионального руководства. Идейнополитическое воспитание членов и кандидатов в члены партии должно было компенсировать ограниченность их политического опыта и минимизировать опасность идеологических колебаний, связанных с непролетарским происхождением.
К изучению проблем партийного просвещения 1920-х гг. советские историки приступили только тридцать лет спустя [Мамай, 1954]. Однако всплеск научного интереса к политической подготовке широких партийных масс произошел лишь в 1960–1970-е гг. Исследователи охарактеризовали основные формы партийного обучения членов и кандидатов в члены партии в
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-01-00313.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 8: История © Т. И. Морозова, 2014
1920-е гг., показали преемственность разных ступеней политического образования [Боженко, 1963; 1964; Потапов, 1963; Со-скин, 1971; Леонова, 1972; 1979; Бурков, 1973; Андрухов, 1977], выявили основные этапы партийного просвещения [Романенко, 1975] и соотнесли достигнутые успехи с текущими задачами социалистического строительства [Рукин, 1971; Молетотов, 1978; 1980]. Результатом многолетних научных поисков советских историков стало введение в научный оборот базового фактического материала по теме исследования, а также вывод об эффективности использования партийным руководством различных форм и методов партийного обучения, росте идейно-политического уровня и политической сознательности большинства коммунистов.
Несмотря на явные преувеличения в оценках советских исследователей достигнутых результатов, начавшийся в 1990-е гг. пересмотр положений отечественной историографии напрямую почти не затронул тему партийного просвещения. Вплоть до последнего времени вопросы теоретической подготовки ответственных работников и пропаганды большевистских идей среди рядовых коммунистов занимали неоправданно скромное место в исследованиях, посвященных РКП(б)–ВКП(б) (см.: [Павлюченков, 2008; Чистиков, 2007; История КПСС, 2013] и др.), или носили исключительно справочный характер [Калинина, Холявчен-ко, 2009].
Тем более вопросы партийного просвещения не были приоритетными для зарубежных историков. Пожалуй, главным достижением западных коллег в этой области стал подробный анализ формирования культа В. И. Ленина [Тумаркин, 1999; Эннкер, 2011], наглядно показавший необходимость рассмотрения не только политики партии, но и ответной реакции на нее со стороны народных масс.
Важность такого подхода целиком подтверждается наметившимся в последние годы обращением исследователей к проблемам политической адаптации [Шишкин, 2010; Морозова, 2013]. Представляется, что анализ партийного просвещения сквозь призму адаптационного взаимодействия власти и общества позволит более взвешено судить об оптимальности методов идейно-политического воспитания, выявить трудности, с которыми столкнулось партийное руково- дство на пути достижения поставленных целей, и, что наиболее важно, адекватно оценить успешность их преодоления.
Введенные к настоящему времени в научный оборот источники, а также сделанные на их основе исследователями выводы позволяют утверждать, что в качестве инструмента политической адаптации партийное просвещение наиболее активно применялось в 1924–1929 гг. Причины, актуализировавшие именно в это время проблему идейно-политической «обработки» партийной среды, заключались в следующем. Массовое вовлечение в РКП(б) рабочих «от станка», предпринятое после смерти В. И. Ленина в соответствии с решением пленума ЦК от 31 января 1924 г., потребовало усиленного внимания высшего и регионального руководства к организации политического обучения партийной «молодежи», а острая внутрипартийная борьба – систематического воздействия на широкие партийные массы. На протяжении шести лет партийное просвещение находилось в числе по-настоящему приоритетных направлений деятельности РКП(б)–ВКП(б). Снижение внимания к проблеме повышения уровня общей политической грамотности членов и кандидатов в члены партии, по всей видимости, наметилось в конце 1929 г. Развернувшаяся к тому времени массовая коллективизация сельского хозяйства предопределила переориентацию партийных организаций с политического просвещения рядовых коммунистов на первоочередную подготовку узкоспециализированных кадров.
Специфика темы исследования и относительно широкие хронологические рамки обусловили необходимость привлечения обширного массива разнообразных по происхождению, содержанию и информационной емкости источников. Ключевая информация о политике РКП(б)–ВКП(б) и деятельности регионального руководства по организации партпросвещения коммунистов Сибири была извлечена из опубликованных стенограмм заседаний Всесоюзных партийных съездов и Сибирских партийных конференций, из отчетов краевого, губернских и окружных парткомов РКП(б)–ВКП(б). Важнейшие директивы ЦК и Сибирского крайкома партии по вопросам политического просвещения коммунистов, статистические сведения о численности партийно-просветительных учебных заведений, а также про- граммы и инструкции для школ политграмоты и кружков ленинизма были выявлены в центральных и краевых периодических изданиях: газетах «Правда» и «Советская Сибирь», в журналах «Известия ЦК РКП(б)» и «Известия Сибкрайкома РКП(б)» (с 1926 г. – ВКП(б)).
Механизм проведения принятых решений в жизнь прослеживается по делопроизводственной документации, отложившейся в фондах федеральных и региональных архивов: по протоколам заседаний и постановлениям Сибкрайкома, отчетам местных парторганизаций, совпартшкол и комвузов, а также по товарищеским письмам секретарей местных парткомов, адресованным Сибирскому краевому комитету. В совокупности с опубликованными источниками эти материалы позволяют выявить задачи, стоявшие перед партийным руководством в области политического просвещения коммунистов, проследить процесс создания и особенности функционирования сети партийно-просветительных учебных заведений в Сибири.
Особое значение для изучения партийного просвещения с точки зрения его использования в качестве инструмента политической адаптации имеют партийные учебники, популярные пособия и брошюры, а также центральная, краевая и губернская газетная периодика. Являясь одновременно и историческим источником, и объектом изучения, эти издания заключают в себе ценнейшие сведения о содержании, формах, методах и результатах партийного обучения членов и кандидатов в члены РКП(б)–ВКП(б).
Партийное просвещение коммунистов в 1920-е гг. решало одновременно как бы двуединую задачу: с одной стороны, оно давало некие фундаментальные, базовые сведения о мировом революционном движении, советской политической системе и коммунистической партии, с другой – являлось ситуативной реакцией на текущие идейнополитические задачи, стоявшие перед руководством партии и СССР. Рост численности РКП(б)–ВКП(б), низкий уровень общей и политической грамотности большинства ее членов обусловили необходимость обучения широких партийных масс азам большевистской доктрины. Согласно этой идеологии, важнейшим условием существования советской политической системы (по большевистской терминологии тех лет – «диктатуры пролетариата») являлось наличие «железной и закаленной в борьбе» партии, «умеющей следить за настроением массы и влиять на него» [Ленин, 1981. С. 27]. Поэтому членство в рядах РКП(б) обязывало рабочих и крестьян как к пониманию того, что такое «диктатура пролетариата» в целом, так и к усвоению других базовых понятий, характеризующих этот политический режим: «классовая борьба», «неограниченная власть», «демократия для трудящихся», «Советская власть», «союз рабочего класса и трудящегося крестьянства» и т. п. В то же время через систему партийного просвещения ЦК транслировал рядовым коммунистам выработанный политический курс, а также те коррективы, которые вносились в него в зависимости от динамично меняющейся конъюнктуры и хода событий.
На практике решение этих задач было осложнено неоднородностью состава большевистской партии. В зависимости от уровня элементарной и политической грамотности, ценностных ориентаций и целевых установок рядовые члены РКП(б), а также ответственные партийные работники по-разному относились к призывам высшего и краевого руководства к повышению «политической сознательности». Диапазон поведенческих практик коммунистов был предельно широк и колебался от пассивного неприятия партпросвещения и уклонения от политучебы до искреннего желания повысить теоретический уровень и получить практические знания, необходимые для дальнейшего карьерного роста.
Учитывая этот факт, партийное руководство дифференцировало систему партийно-просветительных учебных заведений, предложив разным группам коммунистов различные по продолжительности, содержанию и методам преподавания курсы. Основными формами политического обучения к началу 1924 г. стали ленинские кружки первой и второй ступени, школы-передвижки, стационарные школы политграмоты, совпартшколы и коммунистические университеты. Эта сеть партийного просвещения подразделялась на городскую и сельскую. Первая состояла из кружков ленинизма второй ступени, стационарных школ политграмоты, совпартшкол и комвузов; вторая – из ленинских кружков первой ступени, школ-передвижек и частично – из стационарных сельских школ.
Наиболее сложной для краевого партийного руководства оказалась организация партийного просвещения в деревне. Нехватка политически грамотных коммунистов, которые могли бы осуществлять процесс обучения, недостаток учебных пособий, отдаленность населенных пунктов друг от друга и закономерное нежелание крестьян посещать занятия в ущерб ведению своего хозяйства привели к тому, что многие кружки ленинизма в Сибири существовали только «на бумаге». Не случайно состоявшийся в конце мая 1924 г. XIII съезд РКП(б) рекомендовал партийным комитетам приложить все усилия для того, чтобы «господствующей формой» ликвидации политической неграмотности в деревне стали школы-передвижки [Тринадцатый съезд РКП(б), 1963. С. 660]. В отличие от кружков ленинизма, нуждавшихся в систематическом поддержании их работоспособности, школа-передвижка требовала меньших материальных и интеллектуальных ресурсов, но в то же время могла в течение одного сезона обслужить две, а иногда и три сельские ячейки.
Согласно статистике, оглашенной заведующим агитпропотделом Сибкрайкома М. В. Зайцевым на заседании пленума краевого комитета 9 июня 1926 г., в 1925/26 уч. г. в сибирской деревне функционировали 103 стационарные школы политграмоты и 273 школы-передвижки 1. В следующем 1926/27 уч. г. в партийных организациях Сибири действовали уже 258 стационарных и 300 передвижных школ [Отчет Сибирского крайкома, 1927. С. 75].
Для улучшения работы этих учебных заведений к 1926/27 уч. г. большевистскому руководству удалось подготовить несколько специальных пособий, наиболее распространенными среди которых стали учебник для школ-передвижек М. И. Тайшина [1927] и учебник для деревенских стационарных школ Ф. Ф. Козлова [1927]. Оба издания состояли из небольших тематических сообщений, выдержек из постановлений партийных съездов, а также речей и статей В. И. Ленина и других большевистских вождей. Изучение этих материалов должно было сформировать у рядовых коммунистов самые общие представления о большевистской партии и ее внутренних порядках, привить чувство причастности к происходившим в РКП(б) процессам. К началу 1926/27 уч. г. Сибирский крайком заказал Сибкрайиздату по четыре тысячи экземпляров этих учебников с расчетом на то, чтобы обеспечить ими всех слушателей сельской школы [Сеть партпросвещения…, 1926. С. 52].
Однако ни рост численности стационарных и передвижных школ, ни издание специальных пособий не являлись гарантией успеха в области политической подготовки деревенских коммунистов. Во-первых, посещаемость сельских школ чаще всего не превышала 70,0 % числившихся в них слушателей. Во-вторых, курс школы-передвижки, рассчитанный всего на один месяц, часто не позволял малограмотным членам партии получить даже элементарные знания. В-третьих, прекращение занятий после отъезда школы из того или иного селения и отрыв крестьян от общественно-политической жизни нередко приводили к «рецидиву» неграмотности. В результате коммунисты, уже прошедшие курс политической подготовки, год спустя нередко вновь становились слушателями такой же школы.
Выход из сложившейся ситуации краевое партийное руководство видело в постепенной замене «передвижек» постоянно действовавшими кружками самообразования. За 1925–1929 гг. численность последних в сельской местности Сибири увеличилась с 578 до 2 647, т. е. почти в пять раз [Сводка о числе…, 1929] 2. Иначе выглядела динамика численности стационарных сельских и передвижных школ: 376 – в 1924/25 г. 3, 558 – в 1926/27 г. [Отчет Сибирского крайкома ВКП(б), 1927. С. 75], 450 – в 1927/28 г. [Сведения о результатах…, 1928] и около 400 – в 1928/29 г. [Сводка о числе…, 1929]. Иначе говоря, если в 1926/27 уч. г. «деревенская часть парторганизации почти исключительно обслуживалась школами», то уже через год не менее 63 % ее состава проходили обучение в кружках ленинизма [Отчет Сибирского крайкома…, 1928. С. 187].
Более разнообразной, сложно структурированной и динамично развивавшейся была сеть партийного просвещения в городах. Функционировавшие в них кружки лени- низма, именовавшиеся кружками второй ступени, подразделялись на два типа: пониженного, предполагавшего изучение учебника политграмоты, и повышенного, в которых рядовые коммунисты знакомились с основами политэкономии, историей РКП(б) и революционного движения [К отчету Алт-губкома…, 1924. С. 59]. Вместе с тем объявленная в конце января 1924 г. кампания по массовому вовлечении в РКП(б) рабочих «от станка» потребовала сделать более доступным для малограмотных партийных новобранцев и школьное обучение. В результате уже в марте 1924 г. наряду с обычными, или нормальными, были созданы так называемые сокращенные школы политграмоты. Новые учебные заведения были ориентированы на максимально быструю (полтора месяца) и потому довольно поверхностную политическую подготовку кандидатов в члены партии ленинского призыва.
Для обычных школ политграмоты на протяжении первой половины 1920-х гг. базовым пособием была «Азбука коммунизма» Н. И. Бухарина и Е. А. Преображенского, представлявшая собой популярное разъяснение Программы большевистской партии [1920]. Согласно «Азбуке», РКП(б) являлась единой сплоченной партией, выражавшей интересы рабочих и беднейших крестьян, а ее основной целью считалась победа над буржуазией и «немедленное строительство коммунизма» в России.
Наряду с этим партийно-политическим учебником широкое распространение получила также «Книжка политической грамоты» П. К. Коваленко [1924], переизданная с 1921 по 1924 г. 11 раз и переведенная на армянский, китайский, киргизский, немецкий, татарский, тюркский, украинский и чувашский языки. Это написанное простым и доступным языком пособие, ориентированное на рядовых коммунистов, объясняло такие базовые понятия, как «диктатура пролетариата», «классовая борьба» и «коммунизм», кратко освещало историю революционного движения и коммунистической партии, содержало сведения о комсомоле, Красной армии и профессиональных союзах.
Однако изменение политической конъюнктуры в начале 1924 г. потребовало корректировки курса партпросвещения в сторону «наращивания» антитроцкистской пропаганды. В конце января 1924 г. всем партийным комитетам было предписано пересмотреть программу школ политграмоты, поставив в центр внимания изучение истории РКП(б) «в связи с исключительной ролью в ней руководящих идей тов. Ленина» [Постановление…, 1984. С. 185].
Для сокращенных школ политграмоты агитационно-пропагандистский отдел ЦК разработал специальный курс, рассчитанный на шесть занятий. В таком «сжатом» виде партийная «молодежь» изучала биографию В. И. Ленина, историю Октябрьской революции и гражданской войны в России, получала базовые представления о строительстве советского государства и международном рабочем движении, о программе и организационной структуре большевистской партии, а также о внутрипартийной дисциплине 4. При этом центральное место в курсе сокращенных школ было уделено борьбе «ленинской гвардии» не столько против контрреволюции и буржуазии, сколько против меньшевизма и фракционности в РКП(б). По всей видимости, таким образом сталинское руководство пыталось объяснить партийным новобранцам ошибочность взглядов ранее примыкавшего к меньшевикам Л. Д. Троцкого и доказать необходимость активной борьбы с ним и его сторонниками.
Общей для школ политграмоты и ленинских кружков была проблема кадров. Отсутствие подготовленных лекторов и пропагандистов в местных партийных организациях и нежелание коммунистов из других краев и областей добровольно ехать в отдаленную Сибирь не позволяли качественно изменить положение. Дефицит кадров сделал невозможным квалифицированное чтение лекций, а низкий уровень элементарной и политической грамотности членов и кандидатов в члены РКП(б)–ВКП(б) затруднял процесс восприятия ими нового материала. Поэтому основной формой проведения занятий в школах политграмоты и кружках ленинизма стали беседы с учащимися.
Совокупность обозначенных выше проблем привела к тому, что планы партийного руководства СССР относительно темпов и качества политической подготовки основной массы коммунистов и в еще большей степени – партийной «молодежи» оказались далеки от реального воплощения в жизнь.
В частности, специальная проверка кандидатов в члены партии ленинского призыва, проведенная летом 1924 г., показала, что уровень политических знаний партийных новобранцев по-прежнему оставался крайне низок [Морозова, 2013. С. 195–196].
Поэтому, отказавшись от сокращенных школ политграмоты, с конца 1924 – начала 1925 г. партийное руководство сконцентрировало внимание на развитии нормальных школ. В обязанность последним вменялось, прежде всего, воспитание коммунистов, твердо преданных генеральной линии партии. Особое значение эта задача приобрела в связи с дискуссией, разгоревшейся осенью 1924 г. вокруг «Уроков октября» Л. Д. Троцкого. В январе 1925 г. в Сибирский крайком поступил циркуляр ЦК от 30 декабря 1924 г., напоминавший о приоритетных задачах партийно-просветительных учебных заведений: «Школа политграмоты должна не просто дать своему слушателю определенную сумму политических знаний, не просто ознакомить его с программой, историей, тактикой, строительством и политикой партии, а на почве этого ознакомления помочь ему стать действительным ленинцем, способным противостоять напору мелкобуржуазных влияний, служить его действительной большевистской ленинской закалке, против всякой возможности каких-либо уклонов от линии партии» 5.
Можно утверждать, что эта установка в области политического воспитания стала базовой на несколько лет вперед как в СССР в целом, так и непосредственно в Сибири. Так, заведующий подотделом пропаганды Сибирского крайкома В. Я. Розен, определяя задачи партийного просвещения на 1926/27 уч. г., призывал дать «партийцам ленинский большевистский закал, чтобы они сумели противостоять и отражать все мелкобуржуазные влияния и шатания, под какими бы лозунгами они не выявлялись» [1926. С. 14]. В условиях внутрипартийной борьбы 1920-х гг. такая постановка вопроса была своего рода универсальной формой, наполнявшейся конкретным содержанием в зависимости от той или иной политической обстановки.
Стремясь предстать перед ЦК последовательным проводником генеральной линии, партийное руководство Сибири старательно подстраивалось под текущую политическую ситуацию, призывая к таким же маневрам и рядовых пропагандистов. Причем ответственность, возложенная на последних, была тем сильнее, чем чаще в высших эшелонах власти менялось соотношение сил. Хотя основные положения программы школ политграмоты не утрачивали своей актуальности, отдельные ее пункты в условиях ожесточенной внутрипартийной борьбы нуждались в постоянной корректировке. К концу 1928 г. главным требованием, предъявлявшимся агитпропотделом Сибкрайкома к школам политграмоты, стала способность отойти от установленной программы и, не дожидаясь директив сверху, самостоятельно «сосредоточить внимание на вопросах борьбы с правым уклоном» [Высоцкий, 1928. С. 52].
Однако реализация этой установки краевого партийного руководства требовала от пропагандистов если не политической интуиции, то, по крайней мере, более высокой квалификации. На практике же большинство руководителей школ политграмоты и кружков ленинизма в Сибири были не способны ни к самостоятельному преподаванию курса, ни даже к качественному чтению лекций по уже имевшимся программам. Подводя итоги работы между четвертой и пятой краевыми конференциями, Сибкрай-ком ВКП(б) констатировал невысокий «уровень проработки принципиальных и теоретических вопросов в сети партийного просвещения», что было объяснено «недостаточной подготовленностью части пропагандистов» [Отчет о работе…, 1930. С. 114]. Поэтому одновременно с просвещением рядовых коммунистов одной из важнейших задач Сибирского крайкома на всем протяжении его существования являлась организация обучения преподавательского состава партийных школ и кружков.
К середине 1920-х гг. система профессиональной подготовки партийных кадров включала два основных уровня: советско-партийные школы и коммунистические университеты. Совпартшколы в свою очередь подразделялись на две ступени: первую – с годичным курсом обучения и вторую – на два или три года. На перечисленные учебные заведения партийным руководством возлагались, по меньшей мере, две важные функции. Одна из них – воспитание полити- чески благонадежных и преданных партии коммунистов, знавших и разделявших основные положения большевистской доктрины. Другая – подготовка новых партийных кадров, способных транслировать идеологию в массы и добиваться от рядовых членов партии соблюдения внутрипартийной дисциплины и послушного следования генеральной линии.
К концу 1925 г. в СССР насчитывалось в общей сложности 179 школ первой и 67 – второй ступени, в которых обучалось не менее 26 тыс. чел., и 14 коммунистических вузов, объединявших около семи тысяч студентов [Леонова, 1979. С. 34]. Десять из этих 246 совпартшкол функционировали в Сибири: в Барнауле, Иркутске, Красноярске, Новониколаевске, Омске, Томске и Урале 6. Из них 7 являлись школами первой и 3 – второй ступени.
Летом – осенью 1925 г. Омская и Томская школы второй ступени были объединены в одну, получившую статус краевой [Молетотов, 1980. С. 32]. Это учебное заведение обучало курсантов из Барабинского, Барнаульского, Бийского, Каменского, Кузнецкого, Новониколаевского (с 1926 г. – Новосибирского), Омского, Рубцовского, Славгородского, Тарского, Томского округов и Ойротской автономной области [О краевой совпартшколе, 1926. С. 69]. Подготовка партийных кадров восточной части Сибирского края оставалась в компетенции Иркутской совпартшколы второй ступени. Непосредственное руководство Иркутской и Томской школами было возложено на окружной и губернский парткомы соответственно, тогда как за Сибирским крайкомом оставались главным образом вопросы подбора, а затем – распределения прошедших обучение курсантов на ту или иную работу.
Ответственность за ведение всей учебнометодической деятельности осуществляли специальные школьные советы, состоявшие из заведующего, секретаря, завхоза, председателей партийной и комсомольской ячеек и старосты курсантов 7. Учебный курс включал занятия по русскому языку, математике, естествознанию, страноведению, политэкономии, истории классовой борьбы и истории большевистской партии 8. Однако отда- ленность Сибири привела к тому, что в середине 1920-х гг. большинство советско-партийных школ региона получали разработки по перечисленным дисциплинам с большим опозданием. В результате преподаватели и школьные советы были вынуждены составлять собственные и, по признанию руководства самих совпартшкол, не всегда удачные программы 9.
Частично решить эту проблему должно было распространение «Курса политграмоты», подготовленного заведующим подотделом печати агитационно-пропагандистского отдела ЦК РКП(б) А. И. Бердниковым и ответственным секретарем ЦК КП(б) Туркестана Ф. Ю. Светловым. Изданное в 1923 г. под редакцией Н. И. Бухарина, это пособие было рассчитано в первую очередь на курсантов совпартшкол. Учебник состоял из 19 глав, в которых были изложены базовые положения политэкономии, формационной концепции и теории классовой борьбы, охарактеризованы основные задачи, стоявшие перед большевистской партией на разных исторических этапах, и разъяснена сущность политики, проводившейся Советской властью в области промышленности, сельского хозяйства, торговли, кооперации и финансов. Наряду с общими положениями о союзе рабочего класса и крестьянства, об историческом значении диктатуры пролетариата и необходимости сохранения единства партии, «Курс политграмоты» содержал конкретный фактический материал, необходимый для практической партийной и советской работы.
Однако большой теоретический раздел, насыщенность фактами и внушительный объем учебника заметно затрудняли его восприятие, что признавали даже сами авторы, отметившие, что «Курс политграмоты» не является книгой «для легкого чтения» [Бердников, Светлов, 1923. С. 3]. Если пособия для кружков ленинизма и школ-передвижек напоминали в большей степени пропагандистские брошюры, то учебник для совпартшкол представлял собой основательный справочник, содержавший ответы на наиболее важные вопросы по теории и практике партийного и советского строительства.
Еще одним отличием советско-партийных школ от низших партийных учебных заведений являлись методы преподавания. Наряду с беседами и лекциями руководство совпартшкол время от времени организовывало для курсантов экскурсии в местные музеи, на заводы и предприятия, а в 1924/25 уч. г. даже предприняло попытку введения лабораторного метода преподавания, или так называемого «дальтон-плана». Этот метод, разработанный в США в начале XX в., предполагал раздачу учащимся самостоятельных заданий и списков литературы к ним с последующим обсуждением изученного материала в группах. Несмотря на сложность метода для не имевших опыта такой работы коммунистов, в отчете Сибпо-литпросвету за первый семестр 1925/26 уч. г. руководство Иркутской совпартшколы второй ступени констатировало, что обучение по «дальтон-плану» в целом дало хорошие результаты, проявившиеся в активной работе курсантов и в высокой степени усвоения ими пройденного материала 10.
Иначе обстояло дело в советско-партийных школах первой ступени. Еще в 1925 г. руководство сибирской парторганизации признало, что учебные заведения этого типа не выполняют поставленной перед ними задачи. Поэтому 18 января 1926 г. бюро Сибкрайкома ВКП(б) приняло решение о необходимости их реорганизации в совпартшколы второй ступени 11. Первым шагом в этом направлении стало постановление о ликвидации Иркутской и Томской однолетних школ, принятое бюро краевого комитета 6 мая 1926 г. 12 В 1927 г. были преобразованы в совпартшколы второй ступени Красноярская, Новосибирская и Омская 13, а в 1928 г. – Барнаульская и Ойротская школы 14. В отчете, подготовленном к четвертой Сибпартконференции, состоявшейся 25 февраля – 5 марта 1929 г., краевой комитет констатировал, что к началу 1928/29 уч. г. реорганизация была полностью завершена [Отчет Сибирского крайкома…, 1928. С. 191].
Однако меньше чем через полгода сеть советско-партийных школ была подвергнута новому реформированию. Причиной этого стал, по всей видимости, курс на коллективизацию сельского хозяйства, осуществле- ние которого требовало более основательного подхода к просвещению коммунистов-крестьян. Согласно постановлению ЦК от 1 июля 1929 г., каждая областная или краевая сеть партийного просвещения должна была располагать совпартшколами трех типов: 1) для подготовки деревенских пропагандистов и «политпросветработников»; 2) для колхозно-кооперативного актива и 3) для районных партийных и комсомольских кадров. При этом последние предписывалось создавать только в тех регионах, в которых не было коммунистических университетов. Школы первого типа были рассчитаны на два, второго и третьего – на три года обучения [О работе совпартшкол, 1929].
Опираясь на эту директиву, 3 августа 1929 г. бюро краевого комитета постановило Барнаульскую, Красноярскую и Омскую совпартшколы перепрофилировать в учебные заведения для подготовки колхозно-кооперативного актива, Иркутскую и Томскую – для работников политпросвещения и пропагандистов 15. Не отрицая наличия трудностей, связанных, прежде всего, с потребностью в выработке новых программ для колхозно-кооперативных школ, краевой комитет, тем не менее, оценил проведенную реорганизацию как удовлетворительную [Отчет о работе…, 1930. С. 118]. С одной стороны, к началу массовой коллективизации новые профильные совпартшколы, разумеется, не успели подготовить достаточное количество квалифицированных работников. С другой стороны, приступая к так называемому социалистическому переустройству деревни, краевое партийное руководство все же уже располагало реально действовавшими учебными заведениями, призванными подготовить преданных, исполнительных и квалифицированных в своей области работников.
Вместе с тем подготовка партийных кадров для руководящей работы в окружных и районных комитетах партии в соответствии с постановлением ЦК от 17 июня 1929 г. целиком возлагалась на коммунистические университеты [Рукин, 1971. С. 86]. Стремясь унифицировать и оптимизировать функционирование сети партийного просвещения, 1 июля 1929 г. ЦК принял решение об изъятии аналогичных задач из ведения советско- партийных школ. Как следствие, специальное обучение ответственных работников для сибирской партийной организации оказалось полностью сосредоточенным в УралоСибирском коммунистическом университете, расположенном в Свердловске.
Комплектование вуза производилось Сибирским крайкомом и Уральским обкомом по предварительной разверстке, установленной ЦК. Примечательно, что, несмотря на острую потребность сибирской парторганизации в партийно-советских кадрах, число мест, выделенных для сибирских коммунистов, было невелико. Так, если в начале 1924 г. в Урало-Сибирском комуниверсите-те обучалось около 100 членов партии от Сибири 16, то в 1925/26 уч. г. сибирякам было отведено только 50, а в 1929/30 уч. г. – 70 мест 17. Но даже их удавалось заполнить далеко не всегда. Позднее получение информации о количестве предоставленных мест, слабый теоретический задел и перегруженность большинства партийных работников текущими обязанностями обусловили систематический недобор учащихся. Более того, далеко не все студенты, направленные на учебу в Свердловск, возвращались на работу в Сибирь. Часть из них после завершения обучения по решению ЦК оставалась на Урале либо откомандировывалась в другие регионы СССР. Вероятно, именно поэтому 11 июня 1929 г. бюро Сибкрайкома приняло решение об организации собственного Сибирского коммунистического университета, открытие которого было, тем не менее, отложено до осени 1930 г. Не афишируя недовольство откомандированием выпускников в другие регионы, в качестве главной причины необходимости его создания бюро краевого комитета выделило оторванность обучавшихся в Урало-Сибирском университете студентов «от непосредственного и систематического участия в жизни сибирской партийной организации» 18.
Результаты деятельности совпартшкол и коммунистических университетов напрямую зависели от преподавательского состава, наличия учебных программ, а также познавательных способностей самих учащихся. Но в то же время введение в совпартшколах так называемого «дальтон-пла- на» и стремление к расширению самостоятельности студентов при изучении ими материалов университетского курса дополнительно актуализировали и без того важную задачу издания и распространения партийно-политической литературы.
Смерть В. И. Ленина и предпринятое И. В. Сталиным для решения задач внутрипартийной борьбы противопоставление троцкизма ленинизму обусловили высокий спрос на сочинения умершего вождя. Только за 1924 г. в СССР были изданы 164 его произведения и 263 публикации о В. И. Ленине общим тиражом около 14,5 млн экз. [Ленинский призыв…, 1925. С. 94]. В том же 1924 г. для пропаганды идеологических установок и разъяснения базовых положений большевизма был издан «Популярный политический словарь». Книга, вышедшая тиражом в 50 тыс. экз., была призвана сделать более понятным для партийных служащих, пропагандистов и рядовых членов РКП(б) чтение газет и различных пособий и одновременно ознакомить их с историей и программными положениями коммунистической партии. Словарь раскрывал значение базовых понятий большевистской идеологии, расшифровывал термины так называемого советского «новояза», содержал краткие биографические справки на выдающихся деятелей революционного движения и Российской коммунистической партии.
Стремясь предотвратить попадание «нежелательных» пособий в поле зрения широких партийных масс, ЦК рекомендовал членам и кандидатам в члены РКП(б)–ВКП(б) те издания, которые считал отвечавшими текущим политическим задачам. Один из таких перечней, приведенный в «Календаре коммуниста на 1925 г.», включал девять наименований: «Устав партии» под редакцией Я. А. Яковлева; «Программу партии большевиков-коммунистов» Н. И. Бухарина; «Курс политграмоты по ленинизму» А. П. Стан-чинского; «Ленин (Пособие для кружков)» П. М. Керженцева; «Что должен знать и понимать каждый рабочий, вступающий в партию» и «Историю РКП(б)» г. Е. Зиновьева; «Что должен знать каждый вступающий в коммунистическую партию» А. И. Бердникова и Ф. Ю. Светлова; «Жизнь и работа В. И. Ленина» Е. М. Ярославского и изданную Главполитпросветом брошюру «Ленинскому призыву» [Календарь коммуниста…, 1924. С. 397]. Наряду с перечисленными, в 1925 г. было выпущено еще одно небольшое пособие – книга Л. М. Кагановича «Как построена РКП(б)» [1925], разъяснявшая значение и сущность партийного Устава. В качестве основных автор выделил пять принципов функционирования большевистской партии: политическая активность каждого ее члена, внутрипартийная дисциплина, демократический централизм, построение РКП(б) на основе низовых ячеек и обязательность осуществления политического руководства советскими и общественными организациями.
Популярные издания, вышедшие на протяжении 1920-х гг., «пестрили» упоминаниями о «партии рабочего класса», «пролетарской партии», «авангарде пролетариата» (см.: [Бухарин, Преображенский, 1920; Бубнов, 1924; 1930; Каганович, 1925; Ленинский призыв…, 1925] и др.). Опираясь на Программу и Устав РКП(б), сочинения В. И. Ленина и других идеологов большевизма, высшее руководство активно пропагандировало идею добровольного союза «сознательных передовых борцов за освобождение рабочего класса» [Каганович, 1925. С. 4]. В то же время расстановка сил в высших эшелонах власти и жесткая партийная цензура обусловили активное тиражирование брошюр и книг, посвященных «ошибкам» и «порокам» внутрипартийной оппозиции [Канатчиков, 1925; Ярославский, 1928; 1930].
На первый взгляд логично и убедительно выстроенные, все эти публикации на самом деле обладали глубоким внутренним противоречием. Пропагандируя активность масс и призывая кандидатов в члены и членов РКП(б) к постоянному повышению уровня их политической подготовки, развитию инициативы и самостоятельности, авторы этих изданий одновременно требовали полного и беспрекословного подчинения как ответственных работников, так и рядовых коммунистов директивам ЦК.
Вместе с тем большинство перечисленных изданий оставалось недоступным для широких партийных масс. Во-первых, далеко не каждый из них располагал финансовыми средствами для приобретения новой литературы. Во-вторых, как отмечали руководители совпартшкол, даже их курсанты в первое время буквально «“мучаются” над книгой» 19. Поэтому совершенно законо- мерно, что малограмотные рабочие и крестьяне, занятые на производстве и в сельском хозяйстве, были тем более не способны изучить тот объем литературы, который издавала и распространяла партия.
В результате гораздо более востребованной среди рядовых членов РКП(б)–ВКП(б) оказалась периодическая печать. Осознавая значение этого информационного и агитационно-пропагандистского ресурса, XIII съезд РКП(б) призвал партийные организации добиться в течение года воплощения в жизнь лозунга «Ни одного партийца, не являющегося подписчиком и читателем партийной газеты» [Тринадцатый съезд РКП(б), 1963. С. 647–648]. Хотя в Сибири в намеченные сроки выполнить эту установку не удалось, в начале 1926 г. заведующий подотделом печати Сибкрайкома И. И. Новохатный констатировал, что при наметившихся темпах роста тиража для региона поставленная задача вполне выполнима [1926. С. 27]. Так, 1 января 1925 г. в Сибирском крае насчитывалось 34 газеты общим разовым тиражом в 165,8 тыс. экз. 20, 1 февраля 1927 г. – 30 газет тиражом в 219,9 тыс. [Отчет Сибирского крайкома…, 1927. С. 88], а в начале 1930 г. – уже 70 газет тиражом в 452,0 тыс. экз. [Отчет о работе…, 1930. С. 113]. Таким образом, за пять лет совокупный тираж сибирской газетной периодики увеличился в 2,7 раза, что заметно превышало темпы роста сибирской партийной организации 21. Это в свою очередь означало, что именно партийная пресса стала по-настоящему массовым и наиболее доступным средством распространения идей и конкретных установок большевистской партии.
В зависимости от текущей политической ситуации газеты оперативно акцентировали внимание на тех или иных проблемах партии, пытаясь сформировать у читателя убежденность в правильности генеральной линии, а также в ошибочности и неправомерности всех альтернативных точек зрения. Причем чем ниже был уровень политической подготовки коммунистов, полученной в кружках и школах политграмоты, тем большее влияние на их сознание оказывала периодическая печать, для многих ставшая безальтернативным и потому «единственно верным» источником информации. Не понимая сущности внутрипартийных разногласий, а часто даже не зная основных программных документов РКП(б)–ВКП(б), малограмотные члены и кандидаты в члены партии легко верили в броские заголовки и в опубликованные под ними статьи: «Теория тов. Троцкого и практика нашей революции» [Сокольников, 1924], «Ленин и борьба с оппортунизмом» [Симонов, 1925], «История перешагнет через Троцкого» [1927], «Отход троцкистов» [1929], «Об ошибках и уклоне тов. Бухарина» [1929].
Последствия такого «политического просвещения» отчетливо проявились уже во второй половине 1920-х гг. Ограниченный кругозор, некритическое отношение к действительности и «сервильная» психология большинства членов и кандидатов в члены партии сделали сибирскую партийную организацию легко восприимчивой и к смене политического курса, ставшей результатом тайной поездки И. В. Сталина в Сибирь в начале 1928 г., и к идейному и организационному разгрому внутрипартийной оппозиции, зафиксированному XVI съездом ВКП(б). В итоге к началу 1930-х гг. не только партийные руководители Сибири «демонстрировали свою готовность беспрекословно следовать за генсеком во всех его начинаниях» [Демидов, 1994. С. 146], но и рядовые коммунисты в большинстве своем оказались послушными проводниками спущенных сверху директив.
Достигнутые результаты стали наглядным свидетельством коадаптации партийной власти и той части сибирского общества, которая состояла из членов коммунистической партии. С одной стороны, рядовые члены и кандидаты в члены РКП(б)–ВКП(б) медленно и с трудом, но все же постигали базовые положения большевистской идеологии в ее сталинском варианте; оказавшись втянутыми во внутрипартийные «баталии», они учились «правильно» реагировать на текущие политические события. С другой стороны, объективно оценивая состояние основной массы членов ВКП(б), ЦК и другие руководящие органы выстраивали систему партийного образования в соответствии с особенностями восприятия материала и целевыми установками разных категорий коммунистов. Осознавая неоднородность состава парторганизации, ЦК и Сибирский крайком использовали широкий спектр форм и методов политического просвещения, ориентированных как на ответственных работников, действительно заинтересованных в повышении своего теоретического уровня, так и на членов и кандидатов в члены партии, не проявлявших должного интереса к учебному процессу и не понимавших сути реальных событий. Поэтому, несмотря на то, что только складывавшаяся сеть совпартшкол и комвузов к концу 1920-х гг. оказалась не готовой к выпуску достаточного количества профессиональных преподавателей и пропагандистов, результаты политической подготовки в целом расценивались партийным руководством как вполне удовлетворительные. Дифференцированный подход к партийному просвещению членов и кандидатов в члены партии позволил ему добиться главного – активной поддержки политики ЦК подавляющим большинством рядовых коммунистов, что вполне отвечало интересам партийно-советской элиты.
ROLE OF PARTY EDUCATION IN ADAPTATION OF SIBERIAN COMMUNISTS
TO THE SOVIET POLITICAL SYSTEM
(1924–1929)
Список литературы Роль партийного просвещения в адаптации коммунистов Сибири к советской политической системе (1924-1929 годы)
- Андрухов Н. Р. Партийное строительство в период борьбы за победу социализма в СССР (1917-1937 гг.). М.: Мысль, 1977. 376 с.
- Бердников А., Светлов Ф. Курс политграмоты/Под ред. Н. И. Бухарина. М.: Красная Новь, 1923. 640 с.
- Боженко Л. И. Коммунистическое просвещение трудящихся Сибири (из опыта культурно-просветительной работы в Сибири. 1921-1925 гг.) Томск: Изд-во ТГУ, 1963. 47 с.
- Боженко Л. И. Подготовка кадров для культурно-просветительной работы в Сибири в восстановительный период (1921-1925 гг.)//Вопросы истории Сибири. Томск, 1964. Вып. 1. С. 143-156.
- Бубнов А. С. Основные вопросы истории РКП(б). М.: Госиздат, 1924. 104 с.
- Бубнов А. С. ВКП(б). М.; Л.: Госиздат, 1930. 800 с.
- Бурков В. Н. Идейно-политическое воспитание деревенских коммунистов накануне и в период массовой коллективизации Западной Сибири (1928-1932 гг.)//Социалистическое и коммунистическое строительство в Сибири/Под ред. А. Т. Коняева. Томск, 1973. Вып. 7. С. 57-77.
- Бухарин Н. И., Преображенский Е. А. Азбука коммунизма. Омск: Сибирское отделение Госиздата, 1920. 288 с.
- Высоцкий А. Партпросвещение -на передовые линии огня по правому уклону//На ленинском пути. Новосибирск, 1928. № 22. С. 51-53.
- Демидов В. В. Политическая борьба и оппозиция в Сибири, 1922-1929 гг. Новосибирск: Изд-во Сиб. кадрового центра, 1994. 165 с.
- История коммунистической партии Советского Союза/Под ред. А. Б. Безбородова, Н. В. Елисеева. М.: РОССПЭН, 2013. 671 с.
- История перешагнет через Троцкого//Власть труда (Иркутск). 1927. 11 нояб.
- К отчету Алтгубкома VIII губернской конференции РКП(б). Итоги работ за год (апрель 1923 -апрель 1924 г.). Барнаул: Изд. Алтгубкома РКП(б), 1924. 96 с.
- Каганович Л. М. Как построена РКП (большевиков). Об уставе партии. М.; Л.: Госиздат, 1925. 112 с.
- Календарь коммуниста на 1925 год/Под ред. С. С. Диканского. М.: Московский рабочий, 1924. 596 с.
- Канатчиков С. И. История одного уклона. Л.: Прибой, 1925. 180 с.
- Калинина О. Н., Холявченко Д. С. Партийное просвещение//Историческая энциклопедия Сибири/Под ред. В. А. Ламина. Новосибирск, 2009. Т. 2. С. 583-584.
- Коваленко П. Книжка политической грамоты. М.: Московский рабочий, 1924. 164 с.
- Козлов Ф. Ф. Учебник для деревенских школ стационарных/Под ред. Я. Никулихина. М.; Л.: Московский рабочий, 1927. 392 с.
- Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М.: Изд-во политической литературы, 1981. Т. 41: Май -ноябрь 1920. 696 с.
- Ленинский призыв в РКП(б): Сб. М.; Л.: Госиздат, 1925. 206 с.
- Леонова Л. С. Из истории подготовки партийных кадров в советско-партийных школах и коммунистических университетах (1921-1925 гг.). М.: Изд-во МГУ, 1972. 181 с.
- Леонова Л. С. Исторический опыт КПСС по подготовке партийных кадров в партийных учебных заведениях. 1917-1975. М.: Изд-во МГУ, 1979. 205 с.
- Мамай Н. Коммунистическая партия в борьбе за идейно-политическое воспитание масс в первые годы НЭПа. М.: Госполитиздат, 1954. 136 с.
- Молетотов И. А. Сибкрайком. Партийное строительство в Сибири. 1924-1930 гг. Новосибирск: Наука, 1978. 368 с.
- Молетотов И. А. Создание и развитие системы подготовки партийных кадров в Сибири (ноябрь 1919 -1932 гг.)//Общественное сознание и классовые отношения в Сибири в XIX-XX вв. Новосибирск, 1980. С. 28-36.
- Морозова Т. И. Деятельность партийного руководства Сибири по политической адаптации коммунистов ленинского призыва (1924-1925 гг.)//Власть и общество в Сибири в XX веке. Сб. науч. ст./Под ред. В. И. Шишкина. Новосибирск, 2013. Вып. 4. С. 173-199.
- Новохатный И. И. Основные вопросы сибирской печати//Известия Сибкрайкома ВКП(б). Новосибирск, 1926. № 1. С. 26.
- О краевой совпартшколе//Известия Сибкрайкома ВКП(б). Новосибирск, 1926. № 6. С. 69-70.
- О работе совпартшкол (постановление ЦК от 1/VII-1929 г.)//Известия ЦК ВКП(б). 1929. № 20-21. С. 22.
- Об ошибках и уклоне тов. Бухарина//Сов. Сибирь. 1929. 27 авг.
- Отчет о работе Сибирского краевого комитета (к V краевой партийной конференции). Новосибирск: Сибкрайлито, 1930. 172 с.
- Отчет Сибирского краевого комитета ВКП(б) (декабрь 1925 -март 1927 г.). Новосибирск: Сибкрайлито, 1927. 117 с.
- Отчет Сибирского краевого комитета к IV краевой партконференции. Новосибирск: Сибкрайлито, 1928. 215 с.
- Отход троцкистов//Сов. Сибирь. 1929. 30 апр.
- Павлюченков С. А. «Орден меченосцев»: партия и власть после революции. 1917-1929 гг. М.: Собрание, 2008. 463 с.
- Постановление «О приеме рабочих от станка в партию»//Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М.: Политиздат, 1984. Т. 3: 1922-1925. С. 184-185.
- Потапов П. А. Массово-политическая работа и воспитание пропагандистских кадров в Сибири (1924-1925 гг.)//Партийные организации Западной Сибири в борьбе за построение социализма и коммунизма. Новосибирск, 1963. Вып. 2. С. 205-210.
- Розен В. Я. Задачи по партпросвещению на 1926-27 г.//Известия Сибкрайкома ВКП(б). Новосибирск, 1926. № 9. С. 13-15.
- Романенко А. И. Партийное просвещение в Сибири в 20е годы//Вопросы историографии и источниковедения истории партийных организаций Сибири. Новосибирск, 1975. С. 66-75.
- Рукин Н. С. Строительство фундамента социализма и организация партпросвещения в сибирской партийной организации (1926-1932 гг.)//Вопросы истории социально-экономической и культурной жизни Сибири. Новосибирск, 1971. Ч. 2. С. 74-88.
- Сведения о результатах работы школ и кружков политграмоты за 1927/28 учебный год по Сибирскому краю//Известия Сибкрайкома ВКП(б). Новосибирск, 1928. № 13. С. 11.
- Сводка о числе и составе школ, курсов и кружков политграмоты, действовавших в 1928/29 учебном году по Сибирскому краю//Известия Сибкрайкома ВКП(б). Новосибирск, 1929. № 7. С. 11.
- Сеть партпросвещения в Сибири на 1926-27 гг.//Известия Сибкрайкома ВКП(б). Новосибирск, 1926. № 10. С. 52.
- Симонов Т. В. Ленин и борьба с оппортунизмом//Рабочий путь (Омск). 1925. 16 янв.
- Сокольников Г. Теория тов. Троцкого и практика нашей революции//Красное знамя (Томск). 1924. 31 дек.
- Соскин В. Л. Культурная жизнь Сибири в первые годы нэпа. Новосибирск: Наука, 1971. 350 с.
- Тайшин М. И. Учебник для деревенских школ-передвижек и самообразования. М.; Л.: Московский рабочий, 1927. 334 с.
- Тринадцатый съезд РКП(б) (май 1924 г.): стенографический отчет. М.: Госполитиздат, 1963. 883 с.
- Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России. СПб.: Академический проект, 1999. 285 с.
- Чистиков А. Н. Партийно-государственная бюрократия Северо-Запада Советской России 1917-1920-х годов. СПб.: Европейский дом, 2007. 294 с.
- Шишкин В. И. Проблемы социальной адаптации населения России: историографические итоги и перспективы изучения//Гуманитарные науки в Сибири. 2010. № 4. С. 69-73.
- Эннкер Б. Формирование культа Ленина в Советском Союзе. М.: РОССПЭН, Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2011. 438 с.
- Ярославский Е. М. Против оппозиции. М.; Л.: Госиздат, 1928. 328 с.
- Ярославский Е. М. За последней чертой. М.; Л.: Госиздат, 1930. 196 с.