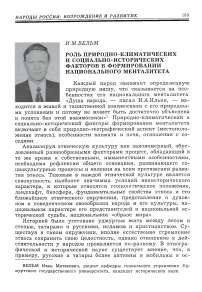Роль природно-климатических и социально-исторических факторов в формировании национального менталитета
Автор: Вельм Иван Матвеевич
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Народы России: возрождение и развитие
Статья в выпуске: 4 (45), 1 (46), 2003 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются природно-климатические и социально-исторические факторы, повлиявшие на формирование менталитета удмуртского народа.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222094
IDR: 147222094
Текст научной статьи Роль природно-климатических и социально-исторических факторов в формировании национального менталитета
Каждый народ занимает определенную природную нишу, что сказывается на особенностях его национального менталитета. «Душа народа, — писал И.А.Ильин, — на-и таинственной взаимосвязи с его природны-потому не может быть достаточно объяснена и понята без этой взаимосвязи»1 Природно-климатический и социально-исторический факторы формирования менталитета включают в себя природно-географический аспект (местоположение этноса), особенности климата и почв, отношения с соседями.
Анализируя этническую культуру как закономерный, обусловленный разнообразными факторами процесс, обладающий в то же время и собственными, имманентными особенностями, необходима рефлексия общего основания, развивающего социокультурные процессы и явления на всем протяжении развития этноса. Таковым в каждой этнической культуре является совокупность наиболее значимых условий внеисторического характера, к которым относятся геополитическое положение, ландшафт, биосфера, фундаментальные свойства этноса и его ближайшего этнического окружения, представление о духовном и поведенческом своеобразии народа и его культуры, национальном характере его представителей и национальной исторической судьбе, национальном «образе мира».
Историей было уготовано удмуртам жить между лесом и степью, татарами и русскими, исламом и христианством. Существуя в таком окружении, вполне естественно стремление этноса сохранить свою целостность, однако отношение к действительности у народов проявляется по-разному. В этнографической и исторической науке существует мнение, что, к примеру, русские и татары более активны и мобильны в ос-
ВЕЛЬМ Иван Матвеевич, доцент кафедры социального управления Удмуртского государственного университета, кандидат исторических наук.
воении мира, нежели их соседи — удмурты, которые более гармоничны в отношениях с природой, поэтому и более пассивны2 Естественно, эта особенность в течение развития удмуртского этноса изменялась в соответствии с социально-экономическими и политическими условиями существования.
Схема раннего периода ассимиляции восточных финнов распространима и на удмуртов. По летописям видно, что ко времени прихода на среднюю Вятку новгородцев в конце XII в., местное население имело здесь свои городища, но, очевидно, не было организовано в военном плане, что позволило небольшим отрядам ушкуйников, выполнявшим военно-разведывательную операцию, разгромить их укрепления и утвердить военно-политическое господство, что, видимо, привело к появлению там князей (или их предтеч батыров, не имевших пока профессиональных военных дружин). Это свидетельствует, на наш взгляд, о том, что ни социальной иерархии, ни развитой административно-политической структуры удмурты до первых серьезных военных столкновений не имели в силу их невостребованности. Межэтнические контакты и интересы этнической безопасности обусловили необходимость более ускоренного социально-политического развития, классового расслоения и сопротивления полной ассимиляции. Еще Н.Я.Дани-левский отмечал, что переход из этнографического состояния в государственное, или культурное, обусловливается толчком или рядом толчков внешних событий, возбуждающих и поддерживающих деятельность народа в известном направлении3
Исторические судьбы у разных народов весьма различны, отличается и восприятие окружающего мира. «Каждой культуре присущ уже вполне индивидуальный способ видения и познания мира-как-природы, или — что одно и то же — у каждой есть своя собственная, своеобразная природа...»4.
Общечеловеческая культура, одинаковая для всех народов, принципиально невозможна, поскольку все этносы имеют разные вмещающие ландшафты, прошлое, настоящее во времени и пространстве. Культура каждого этноса своеобразна и именно эта мозаичность человечества как вида придает ему пластичность, благодаря которой вид Homo sapiens выжил на планете Земля5. В повседневной деятельности и труде человек приспосабливается к обычной для него природной среде, вырабатывая при этом определенные стереотипы поведения, привычки и навыки, а также закрепляющие их психологические установки, эмоциональные реакции, задающие контуры национального характера. Наконец, в определенной связи с услови- ями деятельности людей находятся нормы и идеалы их культуры, предпочтения и отрицательные реакции, совокупность которых обозначается понятием «менталитет». Географический ландшафт воздействует на организм принудительно, заставляя все особи варьировать в определенном направлении, насколько это допускает организация вида. «Тундра, лес, степь, пустыня, горы, водная среда, жизнь на островах и т.д. — все это накладывает особый отпечаток на организмы»0.
Человечество в отличие от прочих видов млекопитающих разнообразно, ибо человек не имеет природного ареала, а распространен, начиная с верхнего палеолита, по всей суше планеты. Адаптивные способности человека на порядок выше, чем у животных. Значит в разных географических регионах и в разные эпохи люди и природные комплексы (ландшафты и геобиоценозы) взаимодействуют по-разному.
Этнос и природная среда составляют единую экологическую систему. Этнос, функционируя долгое время в той или иной природной среде, по крайней мере на начальных этапах развития, вынужден приспосабливаться к ней, формируя специфические способы ее освоения. Эти факторы определяют своеобразный склад характера представителей этноса, ряд психологических предрасположенностей и эмоциональных проявлений, которые оказывают влияние на формирование ценностей, стереотипов мышления и поведения этноса.
Удмуртский народ издревле занимает бассейн рек Камы и Вятки — зону преимущественного распространения северных хвойных лесов, многочисленных рек, речушек и родников. Здесь достаточно суровый континентальный климат с холодной зимой и непродолжительным весенне-летним периодом, несбалансированными осадками. Лес являлся концептом «натурфилософии» удмуртов, определившим основные культурные характеристики этнического ландшафта и экологическое поведение людей в нем. Это поведение во многом характеризовалось личностным отношением к пространству, которое проявлялось в эмоционально-моторном освоении территории, генетически восходящем к традициям культуры охотников и собирателей.
Человек, живущий в лесу, должен был стать частью природы, чтобы добиться получения в ней постоянных результатов, а это значит действовать соответственно устоявшемуся природному ритму. Эти обстоятельства обусловили формирование зависимости удмуртов от природного лесного окружения, что послужило фоном для развития таких черт характера как неторопливость, доходящая до медлительности, методич- ность в выполнении работ, сдержанность в проявлении чувств. Деятельность в лесу оказала определенное влияние и на формирование эмоционального склада. Исследователи отмечают предрасположенность удмуртов к пассивному флегматичному типу темперамента. Один из дореволюционных исследователей удмуртов писал: «В психическом складе Вотяка две черты представляют собой несомненный результат влияния окружающей обстановки — сдержанность в проявлении впечатлений, которая ведет за собой молчаливость, и безграничная способность терпеть — «покорность судьбе до конца». Молчат угрюмые леса, окружающие со всех сторон Вотяка, молчит и он, заряжаясь состоянием среды»7.
Большую роль играла необходимость тонко чувствовать, воспринимать и соотносить различные факты действительности. В лесном массиве, представляющем собой во многом закрытое, замкнутое пространство, удмурт должен был воспринимать явления в комплексе, находить между ними сходства, чтобы по различным приметам ориентироваться, определять возможность получения того или иного результата.
Живая связь с природной средой лежит в основе ментальности язычника-удмурта и определяет его отношение к миру. Захватывающе грандиозными должны были казаться ритуалы, совершаемые некогда первобытными охотниками сначала в пещерных гротах, затем у подножия мощных скальных выступов, под бескрайним ночным небом. Тогда события человеческой жизни были так же грандиозны, как и события жизни природы.
Пространство в представлениях удмуртов не являлось универсальной ментальной категорией, а воспринималось как совокупность уникальных пространств (полей, рек, холмов, рощ и т.д.) и отдельных природных объектов, обладавших различным семиотическим статусом. Значительность и знаковость того или иного территориального объекта определялась местоположением самого определителя, закреплялась в коллективном сознании его социума и менялась в зависимости от выбора конкретной технологии практического и духовного освоения среды. «Первоначальное восприятие пространства было скорее ощущением, а не представлением — это качественно неравномерное пространство»8
Существование в течение длительного времени комбинированной системы земледелия, сочетавшей в себе достоинства трехполья, подсеки и перелога, что связано с природными условиями’ края, приводило к необходимости кооперации уси- лий родственных коллективов. Это обстоятельство среди прочих обусловило склонность удмуртов к общественной, общинной жизни, что оказало влияние на формирование предрасположенности к корпоративному поведению и осознанию себя в единстве со своим социальным окружением. Традиционная агрокультура складывалась в постоянном приспособлении к климатическим и почвенным условиям края и развивалась преимущественно экстенсивным путем. У удмуртского этноса значительно дольше, чем у других народов края, сохранялись древние формы обработки земли. Этому способствовало наличие незанятых, пригодных для сельскохозяйственного освоения территорий и натуральность хозяйства, где не возникало проблемы излишков продукции. Находясь в постоянной зависимости от природы, удмурты привыкли довольствоваться малым, возникла определенная психологическая установка на неприхотливость, имущественное и социальное равенство.
Важнейшей чертой картины мира, сложившейся у чепецких удмуртов на основе исторического опыта, является ощущение глубокой враждебности всего этносоциального окружения. На первом месте по результатам и силе отрицательного воздействия на удмуртский мир находились, в представлении удмуртов, служители местного аппарата власти (воеводы, подъя-чие, приставы, рассыльщики и т.д.). Во взаимоотношениях с более сильными соседями удмурты оказывались часто стороной, подвергающейся обидам и несправедливостям. Это обстоятельство, вероятно, в числе прочих способствовало формированию комплекса национальной неполноценности и национального нигилизма, когда «я — удмурт» произносится с немалой долей извинения.
Отсутствие политического объединения во многом объясняется слабой социальной дифференциацией в удмуртских общинах, неразвитостью традиций лидерства, хозяйственно-экономической разрозненностью общин, ставшей результатом раздельного переселения групп удмуртов. Немалую роль сыграло и то, что сложившаяся ко времени присоединения удмуртов к России социальная структура этноса была усечена за счет почти полной ликвидации патриархально-феодальной элиты. Внутренней реакцией на эти обстоятельства стали психологический надлом, ощущение своей беспомощности и бессилия, своеобразное оцепенение. «Мы, отяки, бедные и беспомощные разоренные людишки»9 — начинают, как правило, удмурты челобитные. И это отнюдь не гипербола, а достаточно точное выражение внутреннего мироощущения удмурта.
Удмурты, стремясь защитить от разрушения свою этническую культуру, ограничивали опыт общения с внешним миром через уход в себя, свой социальный микромир, что оказало влияние на развитие таких черт характера и психологического склада личности как робость, безынициативность, боязнь конфликтов. Враждебным внешним обстоятельствам, победить которые удмуртский мир не в силах, противопоставлялись «смирение и простота». Удмурты стремились неукоснительно выполнять требования властей, вовремя, без недоимок платить подати и терпеливо сносить поборы и разорения воевод и их помощников, отлично зная, что они не имеют под собой никаких законных оснований. Позже А.И.Герцен показал эту черту удмуртской ментальности с выразительной силой художественного обобщения. Удмурт, которому он высказал свое удивление по поводу бедности удмуртской деревни, доверительно сообщил ему: «Что, бачка, делать? Мы бедны, деньги бережем на черная дня. Черная дня, когда исправник да поп приедут»10 Реакция удмуртского мира на это агрессивное, враждебное внешнее окружение — усиление, укрепление коллективности, корпоративности.
В книге немецкого философа В.Шубарта развивается мысль о существовании четырех типов «исторического человека» (человека как субъекта истории) и четырех типов культуры. Эти типы сменяют друг друга и в зависимости от своего доминирования создают гармоничного, героического, аскетического и мессианского человека. Они отличаются друг от друга той жизненной установкой, которую люди принимают по отношению ко Вселенной. Гармоничный человек воспринимает Вселенную как космос, одушевленный внутренней гармонией и не подлежащий человеческому управлению или упорядочению, а долженствующий быть лишь созерцаемым и любимым. Героический человек видит в мире хаос, который он должен упорядочить своей преобразующей силой. Здесь все в движении. Аскетический человек переносит бытие как заблуждение, от которого он пытается скрыться в мистической сути вещей. Он покидает этот мир без надежды и желания улучшить его. Мессианский человек чувствует себя призванным создать на земле более возвышенный, божественный порядок, образ которого он скрыто носит в себе11 По его мнению, эти архетипы можно определить ключевыми положениями: согласие с миром, бегство от мира и освящение мира. Гармоничный человек живет в мире и со всем миром, связанный с ним в одно целое, аскетический отвращается от мира, героический и мес-
О^акто£а^^о^ми£овм1и^^а^ионмьног^^итми^^^__^__ сианский вступают с ним в противоборство. Гармоничный и аскетичный человек — статичны, два других динамичны. Картины мира у гармоничного и мессианского человека сход ны между собой. Однако то, что первый воспринимает как данность, другой видит лишь как дальнюю цель. Характеризуя этнопсихологические особенности удмуртского этноса, мы с полным основанием можем отнести его к гармоническому типу «исторического человека».
Следует отметить, что наряду с эоническими архетипами земля и климат соучаствуют в формировании человека. Они накладывают на его лик те черты, по которым и различаются народы и расы. В молитвах местным богам отдается должное как раз этим силам. Из духа земли вырастает душа народа. Этот дух определяет его родовые национальные качества. Силы почвы фундаментальнее и прочнее сил крови. Почвенные силы меняются лишь в ходе миллионов лет, и если подойти к ним с короткой меркой человеческой истории, то они покажутся постоянными, в то время как силы крови, как все живое, подвержены законам старения12
Влияние особенностей природной среды явственно обнаруживается также в чувственно-эмоциональном компоненте этнического менталитета удмуртов. «Кровь и земля — два различных элемента, которые в понятийном плане не имеют между собой ничего общего. Принципом крови руководятся кровные кланы, союзы людей одной крови, независимо от того, где они проживают. Принцип земли обусловливает территориальное единство людей, обитающих на данном пространстве вне зависимости от их крови. Дух ландшафта обусловливает различия в пространстве, дух эпохи — различия во времени»13
Существование человека в аграрно-традиционалистских обществах всегда опосредовано коллективом: семьей, общиной, родом, племенем. Беспрекословное подчинение членов семьи воле главы — безусловное, не подлежащее обсуждению и не вызывающее сомнений правило существования удмуртского мира. Необходимой ценностью, иметь которую следовало каждому члену общины, была семья. Это вполне объяснимо, так как она была первичной хозяйственной ячейкой, в рамках которой воспроизводилась жизнь и производились материальные и духовные блага.
Установка на гармонию отношений с миром и обществом по-видимому, была характерна для всех уральских народов’. Например, в Калевале мотив образования мира и людей схо- ден с удмуртским: здесь тоже все происходит без конфликта, возникает из природы14 В связи с этим В.В.Напольских, анализируя и сравнивая прауральский и праиндоевропейский мифы о возникновении мира, считает характерной для прауральской традиции установку на гармонию в мире, а девиз ментальности выражает через формулу «живу в согласии»15
Удмурт, живший в традиционном обществе, являлся составляющей иерархии крестьянских сообществ: семьи, деревенской общины, волостной общины, которая в свою очередь входила в состав какого-либо стана. Объяснение противоречию между стремлением к корпоративности и нежеланием занять в этой корпорации руководящее положение старосты, целовальника и т.д. следует искать в исходной посылке. Установка на высокую ценность коллектива, необходимость его сохранения во что бы то ни стало, воспитываемое с младенчества желание слиться с коллективом, ничем не выделяться из него отнюдь не способствовали становлению яркой личности, с сильным характером, способной вести за собой одних и подавлять других16.
В период с XIII по XVI в. гармония с миром осуществлялась через взаимовыгодное сосуществование на одной территории. Когда сопротивление давлению булгар и русских стало невозможным, народ был вынужден оградить себя рамками общины, стать, с одной стороны, скрытным и подозрительным, с другой — терпеливым, покорным вплоть до самоунижения. В определенной степени это привело к ущербности правосознания, потере веры в нравственную и практическую ценность права.
Коллективизм вырабатывался как культурная норма, требующая подчинения мыслей, воли и действий индивида требованиям социальной среды. Эта норма складывалась в условиях общинной жизни патриархального быта. Она, с одной стороны, способствовала организации крестьянского труда и всего уклада деревенской жизни (решение вопросов «всем миром»), а с другой — получала одобрение со стороны власть имущих, поскольку облегчала управление людьми.
Из десятилетия в десятилетие, из века в век в сознании удмурта складывался стереотип: единство, общность, корпорация — высшая ценность, одно из главных условий выживания в экстремальных условиях, в которых оказался удмуртский мир. Выделение личности из корпоративной среды: семьи, общины, мира воспринималось удмуртами цдстороженно и враждебно. Причина этого явления заключается в том, что
«коштаны, ябедники, наговорщики и горланы» могли позволить себе не считаться с регламентирующими нормами обычного права. Они активно использовались в корыстных интересах представителями феодально-бюрократического аппарата власти.
Гиперболичны были вера и преданность удмуртов царю-батюшке. В условиях тяжелого налогового бремени оставался единственный, не раз уже апробированный способ выживания — апелляция к верховной власти, царю, великому князю. Из содержания челобитных, напоминающих мольбы-куриськоны к верховному божеству Инмару, следует, что в системе социальных представлений удмуртов царь играл роль, адекватную роли Инмара. Разница заключалась в том, что в куриськонах, обращенных к божеству, удмурты выдвигали и обосновывали позитивный идеал, должный воплотиться волею Инмара17 В челобитных, направленных к царю, удмуртский мир просил об избавлении от самых негативных явлений, грозящих существованию народа. Разница заключалась также в том, что перед Инмаром — добрым божеством, удмурты чувствовали себя детьми, над которыми должна простираться его забота, самые сокровенные желания которых он постарается выполнить. Перед царем удмурты выступали сиротами, бедными и беспомощными, беззащитными, разоренными и бредущими врознь людишками, и милость царя могла последовать лишь в самом крайнем случае, когда положение становилось невыносимым.
Необходимо отметить, что для удмуртов время — не абстракция, а живая связь поколений, благодаря которой на земле сохраняются удмуртские «род и племя». Забота о сохранении «рода и племени» развивает и экологическое сознание. Жизнедеятельность крестьянина, ведущего по преимуществу натуральное хозяйство, напрямую связана с природным ландшафтом. Нарушение сложившегося баланса между угодьями наносит непоправимый урон хозяйству. И не удивительно, что предметом особой заботы удмуртов были охотничьи угодья.
Прослеживая процесс колонизации, М.Г.Худяков показывает как складывался под ее влиянием национальный менталитет удмуртов. «Коренное вотское население с грустью смотрело, как количество земель уменьшается, леса вырубаются, реки мелеют, пушные звери исчезают, урожаи становятся редкими... Удмурты сосредоточенно молчат и терпеливо смотрят на это чуждое им, полное неукротимой силы движение». Все это, по его мнению, стесняло свободу удмурта, и он углублялся в себя, свой внутренний мир. «Пути к активному проявлению своей деятельности были для вотяков закрыты, и поневоле их характер становился пассивным, созерцательным»18
Следует подчеркнуть, что самоизоляция несла комплекс негативных последствий. Если этнос действует как закрытая система, то он подвержен энтропии, внутреннему распаду, не имеет достаточных импульсов для развития и самоорганизации. Установка на изоляционизм обеспечивала трансляцию из поколения в поколение устоявшихся ценностей аграрно-традиционалистского общества, но механизмы его движения вперед, саморазвития отсутствовали или действовали весьма слабо. Таким образом, психологически установки на изоляционизм не способствовали не только развитию этноса, но и становлению личности, способной действовать и выживать в условиях неудмуртского окружения. Исподволь формировался и генетически закреплялся преобладающий тип интроверта, проявляющего изобретательность, ум, смекалку, и вообще достаточно уютно чувствующего себя в корпоративной среде, но теряющего эти качества в иноэтническом окружении.
Социальным институтом, оказавшим глубокое воздействие на генезис этнического менталитета удмуртского этноса, выступает община. Более полутора веков в отечественной социально-философской литературе не прекращается спор о происхождении общины, ее возможностях в построении более справедливого общественного устройства на коллективистских началах. При этом оценки общины всегда были и остаются диаметрально противоположными. Здесь нет необходимости давать характеристику этим оценкам, а следует лишь отметить, что община прививает человеку специфическое понимание смысла жизни, связанное со служением «миру». Осуществляя строжайший контроль, она сдерживает остроту проявления в менталитете своеволия, страсти к разгульной жизни и одновременно поощряет честность, бескорыстность, скромность, совестливость, уважительное отношение к старшим и власти.
Экстремальность природно-климатических условий, эксцессы тюркской и русской колонизации, насильственная христианизация, чрезмерность фискального тягла, ложившегося тяжелым бременем на крестьянство, детерминировали поиски оптимальной социально-экономической организации, соответствующей ментальным качествам удмуртов. На вызовы природы и истории удмуртский народ ответил образованием общины. Удмуртские крестьяне твердо следовали общинному укладу, который соответствовал их представлениям о свободе личности. Община культивировала ценности, ставшие неотъем- лемой частью этнического менталитета удмуртского этноса. Она основана на принципе солидарной ответственности друг за друга. Еще И.В.Киреевский, рассматривая общественное устройство прошлой России, находит многие отличия от Запада: прежде всего, образование в обществе маленьких общинных миров. В этих мирах были малоизвестны частная самобытность (основа западного развития) и общественное самовластие: «Человек принадлежит миру, мир ему. Поземельная собственность, источник личных прав на Западе, была у нас принадлежностью общества. Лицо участвовало во столько раз в праве владения, во сколько входило в состав общества»19
Индустриальное общество изменило ритм жизни, разрушило национальные и религиозные перегородки. Бурное развитие промышленности и транспорта вызвало необратимые изменения в окружающей среде. Железные дороги, металлургия, стекольная промышленность требовали огромного количества сырья, топлива, а следовательно, и леса, который в течение многих веков был объектом поклонения удмуртов. Уничтожение леса вызывало постоянное чувство тревоги, лишало уверенности в завтрашнем дне, так как менялась среда обитания. Исчезали объекты охоты, мелели и забивались топляком реки, гибла рыба. Ликвидация традиционных занятий, объектов поклонения не могла не вызывать ожидания перемен к худшему. При оценке результатов трансформации традиционной культуры удмуртского этноса в первую очередь следует отметить их всеобъемлющий и всепроникающий в рамках этой культуры характер. Это обстоятельство делает весьма затруднительным полный и глубокий анализ процессов модернизации удмуртского общества. Однако, на примере некоторых, отчасти рассмотренных выше параметров, имеется возможность рассмотреть наиболее значимые последствия советской «геополитизации» удмуртского этноса.
По мнению финского исследователя С.Лаллука, у удмуртов, как и у других, проживающих в России восточно-финских народов, ускоряется процесс утраты территориальности20, сокращения сельскохозяйственных угодий, милитаризации экономики, ухудшается экологическая ситуация. Эти и другие факторы дают высокий показатель уровня самоубийств в республике. Количество суицидов среди представителей финно-угорских народов значительно превышает критический уровень — 20 случаев на 100 тыс. чел. населения. По данным Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, динамика суицида в регионе выглядит малооптимистичной. В
1985 г. количество самоубийств на 100 тыс. чел. составляло 63, в 1990 г. — 40, 1991 г. — 37, а с 1992 г. неуклонно повышалось до 48, достигнув в 1995 г. отметки 77, причем в сельской местности этот показатель превысил 100. По материалам А.И.Лазебник и Г.А.Башкировой, это почти вдвое выше общероссийских показателей. В общей структуре смертности трудоспособного населения республики от несчастных случаев суицид достигает 25,5 %, что составляет наибольший удельный вес среди российских регионов21 Более того, среди удмуртов количество самоубийств значительно превышает аналогичный показатель других этносов, проживающих в республике.
Природа самоубийств дает основания специалистам оценивать их как стабильный культуральный удмуртский обычай, осложненный в последние годы общим социально-психологическим стрессом22 Насколько обоснована эта точка зрения? Не правы ли некоторые представители этнической элиты, утверждающие о длительной дискриминации удмуртов и катастрофических последствиях разрушения привычного природно-социального окружения? Еще Э.Дюркгейм заметил, что «контингент добровольных смертей определяется моральной организацией общества, и у каждого народа существует известная коллективная сила определенной интенсивности, толкающая человека на самоубийство»23 Именно эта коллективная наклонность к суициду и может, на наш взгляд, являться культуральным основанием совершения этого акта отдельным индивидом. Важным компонентом таких установок на самоуничтожение являются общие, характерные для коллективного сознания народа воззрения на природу смерти, поскольку утрата смысла жизни еще не является достаточным основанием суицидального поведения. Сама смерть должна иметь определенный смысл, чтобы представления о ней стали целью деятельности человека. Зафиксированная этнографически и культурологически у удмуртов вера в реинкарнацию, слабо реф-лексированные представления о потустороннем мире являются очевидным выражением идеи цикличности человеческой жизни. Сценарий жизненного пути каждого индивида предполагал прохождение ряда необходимых этапов, и в их числе смерть была лишь очередной ступенью к новому социальному статусу.
Безусловно, имеются и определенные психологические предпосылки суицидального поведения. Исторически обусловленный ментальный тип удмуртов оказывается близким к сенситивному складу личности (с низкой и заниженной степенью самооценки, неуверенной, восприимчивой к искренности и теплоте отношений, теряющей активность в стрессовой ситуации, зависимой и т.д.), склонному к суицидальному поведению.
Зарождавшаяся удмуртская национальная интеллигенция пыталась на родном языке донести до крестьян суть происходящих процессов. Народной, крестьянской массе приходилось с трудом осваивать новый лексикон, инородные, даже не русские, термины. Процесс этот шел сложно и болезненно. Стремление снять острое душевное противоречие, сохранить древнюю веру предков и «впустить в душу» православное христианство реализовались в синкретизме, двоеверии, «привитии» на древо языческой религии православных символов, в придании христианским святым черт привычных языческих богов. В этих условиях происходят количественные изменения в психологии этноса. Появляются носители национального самосознания из среды формирующейся национальной интеллигенции. Значительные усилия их были направлены на качественное развитие своего народа.
Доминирование русской культуры, особенно в профессиональной сфере, во времена императорской и советской России привело к заметному, а порой и невосполнимому сокращению «производства» и «потреблению» национальной культуры удмуртского народа. В связи с этим в последней четверти XX в. накопился значительный ностальгический заряд по удмуртской этничности, истощающейся под влиянием урбанизации, технологизации и модернизации.
За советский период отечественной истории в условиях культурной и языковой унификации были созданы условия маргинализации народов. Эти процессы коснулись преимущественно населения городов и новостроек страны. Образование маргинальных групп было обусловлено системой образования, воспитания, а также межэтническими браками. Однако представители удмуртской интеллектуальной элиты, во многом утратив свою национальную культуру, сохранили этническое самосознание.
В последние годы становится все очевиднее, что экономические и политические изменения, происходящие в российском обществе, должны сопровождаться адекватными изменениями духовного мира, традиционного менталитета.
Список литературы Роль природно-климатических и социально-исторических факторов в формировании национального менталитета
- Ильин И.А. Сущность и своеобразие русской культуры//Собр. соч. М., 1996. Т. 6. Кн. 2. С. 377.
- Владыкин В.E., Христолюбова Л.С. Этнография удмуртов. Ижевск, 1994. С. 170.
- Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-романскому. СПб., 1995. С. 111.
- Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск, 1993. С. 289.
- Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1993. С. 39.