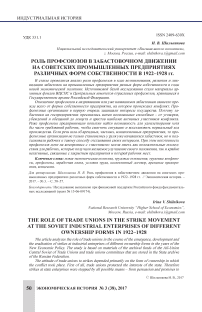Роль профсоюзов в забастовочном движении на советских промышленных предприятиях различных форм собственности в 1922-1928 гг
Автор: Шильникова Ирина Вениаминовна
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Индустриальная история
Статья в выпуске: 3 (38), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится анализ роли профсоюзов в ходе возникновения, развития и ликвидации забастовок на промышленных предприятиях разных форм собственности в годы новой экономической политики. Источниковой базой исследования стали материалы архивных фондов ВЦСПС и Центральных комитетов отраслевых профсоюзов, хранящиеся в Государственном архиве Российской Федерации. Отношение профсоюзов к назревавшим или уже начавшимся забастовкам зависело прежде всего от формы собственности предприятия, на котором происходил конфликт. Профсоюзные организации в первую очередь защищали интересы государства. Поэтому забастовки на госпредприятиях пресекались всеми возможными способами - от уговоров, убеждений и обещаний до локаута и арестов наиболее активных участников конфликта. Реже профсоюзы предпринимали попытки найти возможность для удовлетворения хотя бы части требований рабочих, чтобы смягчить ситуацию и восстановить нормальный ход производства. Если речь шла об арендных, частных, концессионных предприятиях, то профсоюзные организации не только становились у руля уже начавшихся забастовок, но и подталкивали рабочих к такому способу отстаивания своих интересов. При этом неготовность профсоюзов идти на компромисс с «частником» могла иметь как положительные последствия для рабочих, которые получали желаемое улучшение своего положения, так и крайне негативные, связанные с закрытием предприятия и потерей рабочих мест.
Новая экономическая политика, трудовые отношения, трудовые конфликты, профсоюзы, заработная плата, условия труда, коллективный договор, арендные предприятия, концессии
Короткий адрес: https://sciup.org/14723858
IDR: 14723858 | УДК: 331.1
Текст научной статьи Роль профсоюзов в забастовочном движении на советских промышленных предприятиях различных форм собственности в 1922-1928 гг
После революционных событий 1917 г. профсоюзы в Советской России приобрели заметный политический вес. Будучи по природе своей общественными организациями, призванными отстаивать интересы рабочих, они, тем не менее, на протяжении всех 1920х гг. являлись союзником государства в ходе подавления многочисленных забастовок и иных форм трудовых конфликтов и протестного движения рабочих в целом. Местные профсоюзные деятели регулярно отправляли в вышестоящие органы сводки, содержавшие информацию о настроениях рабочих.
В 1920-х гг. профсоюзам отводилась ключевая роль в разрешении конфликтных ситуаций, возникавших на промышленных предприятиях. Позиция профсоюзных организаций в ходе возникновения, развития и ликвидации трудовых конфликтов, и прежде всего их наиболее острой формы – забастовок, могла быть различной. Зависела она в гораздо большей степени не от положения рабочих, основательности и справедливости их требований, а от формы собственности предприятия. На различное отношение к забастовкам, происходившим, с одной стороны, на государственных, а с другой – на частных, арендных и концессионных предприятиях, обращали внимание в своих монографиях Л. В. Борисова [1] и Д. О. Чураков [7; 8]. Однако многие аспекты данной проблемы оставались за рамками рассмотрения.
В статье на основе детальной информации о ходе забастовок на государственных и частных предприятиях рассматривается роль профсоюзов на различных этапах протекания конфликтов – от возникновения недовольства рабочих и формирования требований до завершения забастовки, ее результата и последствий для рабочих.
Методы
В статье рассматриваются основные методы, применявшиеся профсоюзными организациями для предупреждения и скорейшей ликвидации забастовок на госпредприятиях, а также для подогревания забастовочных настроений рабочих на фабриках и заводах, принадлежавших «частникам». Исследование, проведенное на микроуровне, позволило проанализировать последствия вмешательства профсоюзов и их влияние на исход конфликта. Источниковой базой исследования стали материалы архивных фондов Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) и Центральных комитетов отраслевых профсоюзов, хранящиеся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ).
Отдел статистики конфликтов Центрального Бюро статистики труда ВЦСПС в 1920-х гг. занимался сбором информации о трудовых конфликтах, разработав специальную анкету, которая должна была заполняться на местах сразу по завершении конфликта. Отдельные бланки с соответствующими наборами вопросов были разработаны для забастовок и других форм конфликтов, не сопровождавшихся остановкой производства [6, л. 98]. Один из пунктов «забастовочного» бланка как раз касался позиции профсоюзов по отношению к конфликту. При этом предлагалось несколько вариантов ответа, хотя сотрудник, заполнявший бланк, имел возможность скорректировать предложенные формулировки или, исходя из ситуации, предложить собственную. Согласно сведениям этих бланков за 1922–1928 гг., забастовки могли происходить: 1) «без предварительной санкции Союза»; 2) «по постановлению Союза»; 3) «вопреки постановлению Союза»; 4) «с ведома Союза». В подавляющем большинстве случаев первый и третий варианты ответа характеризовали ход забастовок на государственных предприятиях, а второй и четвертый – на фабриках и заводах иных форм собственности.
Результаты
Стремясь в кратчайшие сроки ликвидировать конфликт на госпредприятиях, профсоюзные организации, как правило, сначала прибегали к уговорам, разъяснениям о «вредности» забастовок для самих рабочих, характеристике тяжелого финансового положения «молодого советского государства», обещаниям в ближайшее время выполнить требования рабочих полностью или частично. Надо отметить, что нередко подобная деятельность приносила ожидаемый результат и рабочие возвращались к станкам. Хотя в случае невыполнения ни одного из данных обещаний существовала угроза повторной забастовки, «уговорить» которую было уже сложнее. Если же рабочие проявляли упорство, представители профсоюзов выступали за применение жестких методов ликвидации конфликта. Сначала следовали угрозы применения к забастовщикам таких мер, как увольнение части или всех рабочих, остановка производства. Как и администрация предприятий в дореволюционной России, профсоюзы часто использовали такой канал общения с рабочими, как объявления. Это могло объясняться отказом рабочих участвовать в общих собраниях, а также опасениями руководства предприятий на фоне обострения конфликта собирать в одном месте большое количество работников, решительно настроенных отстаивать свои интересы. Так, в «воззвании» от имени профсоюза текстильщиков, обращенном к рабочим Большой Костромской льняной мануфактуры, по поводу двух забастовок, происшедших в январе и феврале 1922 г., указывалось, что остановка производства приводит «к срыву восстановления народного хозяйства», а следовательно, к ухудшению положения самих рабочих. Далее подчеркивалось, «что такие явления как забастовки ни в коем случае не будут поддерживаться Профсоюзом». Зачинщики же забастовки должны быть «изъяты с предприятий и переданы дисциплинарному суду» [2, л. 3].
Необходимо отметить, что профсоюзные организации не всегда столь слепо отстаивали государственные интересы, игнорируя справедливые требования рабочих. Они могли подключаться к решению тех проблем, которые вызвали острый протест рабочих. Так, летом 1922 г. «через хлопоты Союза Деревообделочников» удалось достать 3 млрд руб. для выплаты задолженности по зарплате забастовавшим рабочим 1-го государственного фанерного в Петрограде, что позволило восстановить нормальный ход производства на предприятии [3, с. 296].
Владельцев негосударственных предприятий представители профсоюзов воспринимали как классовых врагов, с которыми должна вестись непримиримая борьба. Аналогичный взгляд на работодателя навязывался и рабочим. Многие арендные и частные предприятия были сравнительно небольшими, а в качестве их владельцев выступали прежние хозяева. В этом случае рабочие изначально, как правило, не были настроены на обострение отношений и остановку работ. В источниках зафиксировано немало случаев, когда именно вмешательство профсоюза в конфликт на сравнительно небольшом негосударственном предприятии, где трудилось порядка нескольких десятков человек, становилось отправной точкой забастовки. Причем по инициативе и при участии профсоюзных представителей список первоначальных требований рабочих становился заметно длиннее. Как правило, такие конфликты имели два возможных исхода: либо выдвинутые требования полностью удовлетворялись под давлением продолжающейся забастовки и возрастающих в связи с этим убытков владельцев, либо предприятие прекращало свое существование, а все работавшие на нем вынуждены были переходить в категорию безработных и искать новое место, что было далеко не просто.
Обсуждение
Примером сравнительно удачного для рабочих исхода забастовки стал конфликт на арендованном братьями П. и Г. Егоры-чевыми валяно-сапожном заводе «Свобода» (Ярославская губерния, с. Макарово) в феврале-марте 1925 г. Дело в том, что 1 февраля истек срок коллективного договора. За две недели до указанной даты арендаторы вывесили объявление о планируемом закрытии предприятия. Однако профсоюз, узнав об этом, не предпринял никаких попыток предотвратить увольнение рабочих. 1 февраля выяснилось, что, во-первых, арендаторы не могут в данный момент полностью рассчитать рабочих ввиду отсутствия денег; во-вторых, они обещали достать необходимую сумму к 15 февраля; в-третьих, не исключена возможность пуска завода вновь в середине февраля, если рабочие согласятся на снижение расценок: 75 коп. за пару вместо 87 коп., платившихся ранее [5, л. 29]. В тот же день, 1 февраля, на общем собрании было принято решение согласиться на условия арендаторов, потребовав только, чтобы при пуске завода обратно были приняты все без исключения рабочие [5, л. 34]. Профсоюз, выступивший в роли посредника, настаивал на сохранении существовавших ранее размеров оплаты, но арендаторы отказывались подписывать колдоговор на прежних условиях. По прошествии двух недель расчет так и не был выдан, подписание нового коллективного договора не состоялось, но рабочие с 16 февраля приступили к работе при сниженных расценках. Через неделю арендаторы погасили всю задолженность перед рабочими за исключением пени, выплата которых предусматривалась колдоговором в случае нарушения сроков выдачи заработной платы [5, л. 29 – 29 об.].
Ситуация начала обостряться в первых числах марта, поскольку профсоюз и братья Егорычевы так и не нашли компромисса, вследствие чего колдоговор по-прежнему отсутствовал, и рабочие вновь не получали зарплату. 4 марта состоялось общее собрание рабочих, на котором прибывший на завод член Президиума Ярославского губотдела профсоюза Валенков призвал присутство- вавших отказаться от ранее принятого решения о согласии на понижение расценок и объявить забастовку. В частности, обращаясь к рабочим, он произнес: «Ваше постановление от 1-го февраля нас удивило. Вы сами себе снизили зарплату […] Неужели мы дошли до того, чтобы уступать то, что с таким трудом нами завоевано. Еще понятно такое явление на государственных предприятиях, там это нужно для самих же рабочих, нужно для экономической смычки города с деревней, а также для урегулирования труда рабочих. Но совсем непонятно такое явление на частных предприятиях, арендаторами и владельцами которых являются наши враги. Уступить им без основательных причин – это значит сделать врагу подарок» [5, л. 36]. Эти высказывания отражали позицию профсоюзов в целом, использовавших разные подходы при оценке действий рабочих, направленных на улучшение или сохранение на прежнем уровне своего материального положения, в зависимости от формы собственности предприятия. После выступления Валенкова общее собрание рабочих постановило признать «не имеющим силы» решение, принятое 1 февраля, а также составить полный список претензий рабочих к арендаторам, «вытекающих из Кодекса законов о труде и существовавшего колдо-говора», а затем начать на этой основе переговоры о заключении нового коллективного договора [5, л. 36 об.].
Действительно, переговоры об условиях заключения нового колдоговора состоялись 5 марта. Со стороны арендаторов в них участвовали сами братья Егорычевы, а интересы рабочих представлял Валенков, который не шел ни на какие компромиссы. Все попытки убедить профсоюзного деятеля в том, что сохранение прежних расценок при наблюдающемся сокращении объемов продаж может привести к очередной остановке производства, не дали результатов [5, л. 32 – 32 об.]. Уже через несколько часов после завершения переговоров на заседании Президиума Ярославского губотдела профсоюза текстильщиков было принято решение объявить завод «на положении стачки» [5, л. 37 – 37 об.]. В этот же день вечером Валенков сообщил рабочим, что в ходе пере- говоров арендаторы выдвигали «совершенно неприемлемые предложения. Союз же со своей стороны сделал все возможное для урегулирования конфликта». Он подчеркнул, что «принять предложение арендаторов равносильно дать себе пощечину. Союз на это не пойдет» [5, л. 31]. Складывается впечатление, что Валенков больше беспокоился об авторитете профсоюза, а не о защите интересов рабочих. Но ему удалось убедить общее собрание сформировать стачечный комитет, который он сам и возглавил, и утром на следующий день, 6 марта, начать забастовку. Под давлением этих обстоятельств арендаторы уже на следующий день согласились подписать новый коллективный договор на условиях профсоюза [5, л. 38]. Данный случай является одним из примеров, когда забастовка, инициированная профсоюзом, завершилась удовлетворением выдвинутых требований. Однако случалось, что в подобных ситуациях предприятия через непродолжительное время вновь сталкивались с проблемами, переживали временную остановку производства или даже закрытие, поскольку наложенные на владельцев обязательства оказывались завышенными и попросту невыполнимыми. Так, забастовка на Блонной фабрике в апреле 1924 г., начатая по инициативе профсоюза, обернулась закрытием предприятия и потерей работы для всех 213 чел., на нем работавших.
Ткацкая Блонная фабрика была расположена в 35 верстах от станции Куприно Орловско-Витебской железной дороги (Смоленская губерния). Летом 1923 г. ее взял в аренду бывший владелец С. А. Штейн, который занимался «коммерческими вопросами», а его компаньон Ильвовский руководил непосредственно производственным процессом [4, л. 27, 29]. Начиная с осени 1923 г. оборудование поэтапно вводилось в действие. Сначала были пущены всего 20 станков, а к марту 1924 г. их уже работало 136. Остальные 60 станков, которыми располагала фабрика, требовали ремонта, завершить который планировалось к 1 мая [4, л. 29]. С. А. Штейн смог обеспечить фабрику заказами и сырьем. Торговое отделение СНХ Киргизской республики (Кирторг) как раз объявило торги на поставку бязи и миткаля, заявив о готовности обеспечивать хлопком. Все государственные предприятия отказались от этого заказа, поэтому Штейн смог заключить договор с Кирторгом и получить аванс и сырье [4, л. 27]. Однако первые партии выпущенной продукции оказались плохого качества, поэтому Кирторг отказался за них платить. Это привело к формированию все увеличивавшейся задолженности перед рабочими по заработной плате, в связи с чем Смоленский губернский отдел профсоюза текстильщиков после неоднократно вызывал Штейна для обсуждения сложившейся ситуации, но тот не являлся, отправляя вместо себя лиц «с неподтвержденными полномочиями». Когда дело было передано в примирительную камеру, Штейну по результатам разбирательства пришлось подписать обязательство, включавшее целый ряд пунктов:
«1. Произвести расчет с рабочими за февраль и за 1-ю половину марта не позднее 1-го апреля с/г, а за вторую половину марта – не позднее 15-го апреля с/г.
-
2 . Произвести оплату сверхурочных работ не позднее 1-го апреля с/г.
-
3 . Ликвидировать задолженность по социальному страхованию за период до 15-го марта не позднее 5-го апреля с/г, а за период с 15-го марта по 1-ое апреля – не позднее 15-го апреля с/г» [4, л. 25].
Далее следовало множество обязательств, связанных с выполнением техники безопасности и улучшением условий труда рабочих.
За несколько дней до установленной даты, 25 марта 1924 г., на фабрику приехал председатель губотдела профсоюза текстильщиков, созвал общее собрание рабочих и озвучил информацию о подписанных Штейном обязательствах. При этом он призвал рабочих, в случае нарушения владельцем данного обещания, объявить забастовку [4, л. 29].
В назначенный срок, 1 апреля, заработная плата выплачена не была. На следующий день на фабрику приехал сын владельца с деньгами, которых хватило лишь на то, чтобы выдать рабочим по 3 руб. на человека. Но эта сумма не покрывала всей задолженности по зарплате. Тогда рабочие на общем собрании выбрали делегатов для поездки в Смоленск в губотдел профсоюза. Однако выборным не удалось добраться до цели из-за разлива рек. Обсудив сложившуюся ситуацию, рабочие, взяв на вооружение слова председателя губотдела, решили объявить забастовку, которая и началась на следующий день – 3 апреля. Однако это не только не улучшило, а лишь ухудшило положение рабочих. Фабрика из-за половодья «превратилась в отрезанный от мира остров» [4, л. 29]. Рабочие не могли попасть домой, пополнить запасы продовольствия, взять одежду и т. п. Они вынуждены были оставаться на фабрике, прямо в корпусах. Через несколько дней, когда вода отступила, делегация от рабочих все же добралась до Смоленска.
-
6 апреля на внеочередном заседании Президиума Смоленского губотдела Всероссийского профсоюза текстильщиков в присутствии представителей Губпрофсо-вета и отдела труда прибывшие сообщили о начале забастовки и крайне тяжелом положении рабочих в связи с невыплатой зарплаты и разливом рек. В результате уже начавшаяся забастовка была санкционирована, а одного из членов президиума командировали для руководства забастовкой. Причем из фонда безработных были выданы 300 руб. для помощи забастовщикам, взыскать же их планировалось впоследствии с арендатора. Также был составлен список требований для предъявления арендатору. И только после их удовлетворения работы на фабрике, по мнению профсоюза, могли возобновиться [4, л. 24, 29].
Дальнейшие события продемонстрировали, с одной стороны, стремление Штейна найти выход из сложившейся ситуации и сохранить фабрику, а с другой – нежелание профсоюза идти на какие-либо компромиссы.
-
7 апреля в губотдел профсоюза прибыли доверенные лица арендатора Блонной фабрики – сын С. А. Штейна и «гражданин Столыгво», которые заявили о банкротстве предприятия. Для того чтобы сохранить производство, они предложили губотделу принять участие в формировании нового правления фабрики, но с условием, что профсоюз даст недостающую сумму для выплаты рабочим задолженности по заработной плате, т. е. около 600 червонцев. Губотдел
отправил их с этим предложением в отдел труда, а сотрудники последнего отказались вести какие-либо переговоры, поскольку представители арендатора не предоставили никакого юридического подтверждения своих полномочий вести дела [4, с. 30].
-
8 апреля губотдел профсоюза отправил письмо в Кирторг с предложением «оставить фабрику в своем ведении, сохранив ее как рабочую единицу». В этот же день профсоюз выдвинул арендатору очередной список требований, в который входили следующие пункты: 1) полностью выплатить задолженность рабочим по заработной плате; 2) перечислить Губотделу «культотчис-ления», а также выплатить средства на содержание фабкома; 3) за нарушение сроков выдачи зарплаты выплатить рабочим пени в размере 3 % за каждый просроченный день; 3) оплатить рабочим время забастовки; 4) возместить Губотделу все «расходы в связи с забастовкой»; 5) не увольнять ни одного работника без разрешения Губотде-ла. Таким образом, инициировал забастовку профсоюз, а платить за нее должен был арендатор [4, л. 30].
-
9 апреля Штейн сообщил о согласии Кир-торга выплачивать в дальнейшем заработную плату рабочим и вносить отчисления на культнужды. Деньги планировалось выслать на следующий день. Штейн просил профсоюз проконтролировать, чтобы по получении денег рабочие вернулись к станкам. Но Гу-ботдел принял постановление «не приступать к работе, пока Штейн не выполнит все требования». На следующий день, 10 апреля, пришла телеграмма от Кирторга, в которой сообщалось, что обещанные деньги «посланы с артельщиком», в связи с чем рабочие Блонной фабрики должны были возобновить выпуск продукции. Но Губотдел опять заблокировал возможность завершения конфликта и восстановления производства, приняв решение о том, что рабочие приступят к выполнению заказа только после выполнения требований союза. Фабричному комитету была направлена телеграмма, содержавшая требование бастовать «до удовлетворения всех требований Союза» и ждать распоряжений губотдела о возможности прекращения забастовки [4, л. 30]. Такое распоряжение
поступило лишь 19 апреля, «чтобы не вводить Кирторг в убытки». К этому времени С. А. Штейн был объявлен банкротом и арестован [4, л. 27, 31]. При этом дальнейшая судьба фабрики оставалась неясной. Во-первых, оставалось неясным, в чьем ведении юридически она находится. Во-вторых, имеющегося запаса сырья хватило бы только на два месяца, и то при условии, что фабрика будет работать не на полную мощность, а штат рабочих будет сокращен на 60 чел. [4, л. 28, 31]. В-третьих, присланных Кирторгом денег не хватило для погашения всей задолженности рабочим, и последние угрожали новой забастовкой. В итоге было принято решение наложить арест на имеющееся имущество, сырье и фабрикаты для выплаты задолженности по заработной плате и расчета рабочих [4, л. 28].
Заключение
Таким образом, в первые годы существования советской власти и в период нэпа профсоюзные организации предпринимали все возможные меры для предупреждения назревающих и скорейшей ликвидации уже возникших забастовок на государственных предприятиях. При этом, не отказываясь от использования методов убеждения, уговоров, обещаний, они выступали за применение по отношению к наиболее активным участникам конфликта репрессивных мер. И хотя низовые профсоюзные организации нередко соглашались с тем, что у рабочих были основания бастовать, на их стремление подавить конфликт это практически не влияло. Совершенно иную позицию занимали профсоюзы по отношению к забастовкам на арендных, частных и концессионных предприятиях. Профсоюзные деятели не только способствовали обострению уже возникших конфликтных ситуаций, но открыто подталкивали рабочих к забастовке, убеждая их в необходимости столь решительных мер. Как правило, такие забастовки заканчивались либо полным удовлетворением требований рабочих (а точнее, профсоюза, выступавшего от их лица), либо закрытием предприятия и увольнением всех работников.
Список литературы Роль профсоюзов в забастовочном движении на советских промышленных предприятиях различных форм собственности в 1922-1928 гг
- Борисова Л. В. Трудовые конфликты в Советской России (1918-1924 гг.). -М.: Собрание, 2006. -288 с.
- Доклад и переписка о возникших забастовках на Костромской и Орехово-Зуевской текстильных фабриках на почве недовольства низкой заработной платой. Воззвание Правления Союза текстильщиков к рабочим Костромских текстильных фабрик о прекращении забастовки//Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). -Ф. 5457. -Оп. 6. -Д. 66.
- Питерские рабочие и «диктатура пролетариата». Октябрь 1917-1929. Экономические конфликты и политический протест. Сборник документов. -СПб.: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 2000. -464 с.
- Протоколы, доклад и переписка о возникших конфликтах и забастовках на предприятиях текстильной промышленности на почве неправильной выплаты заработной платы, увольнения и т. п. Ведомости забастовок, происходивших в течение 1924 г.//ГАРФ. -Ф. 5457. -Оп. 8. -Д. 81.
- Протоколы и переписка ЦК с губернскими отделами Союза текстильщиков и текстильными предприятиями о возникших конфликтах с рабочими и служащими текстильной промышленности на почве неправильной выплаты заработной платы, за сверхурочную работу и увольнения с работы//ГАРФ. -Ф. 5457. -Оп. 9. -Д. 96.
- Статистические сведения Советов профсоюзов по учету забастовок и локаутов//ГАРФ. -Ф. 5457. -Оп. 7. -Д. 670.
- Чураков Д. О. Бунтующие пролетарии: рабочий протест в Советской России (1917-1930-е гг.). -М.: Вече, 2007. -352 с.
- Чураков Д. О. Революция, государство, рабочий протест: Формы, динамика и природа массовых выступлений рабочих в Советской России. 1917-1918 годы. -М.: РОССПЭН, 2004. -368 с.