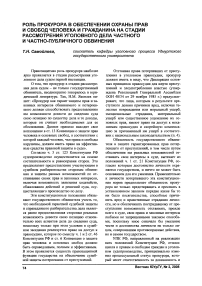Роль прокурора в обеспечении охраны прав и свобод человека и гражданина на стадии рассмотрения уголовного дела частного и частно-публичного обвинения
Автор: Самойлова Т.Н.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Статья в выпуске: 2 (102), 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/147149317
IDR: 147149317
Текст статьи Роль прокурора в обеспечении охраны прав и свобод человека и гражданина на стадии рассмотрения уголовного дела частного и частно-публичного обвинения
Правозащитная роль прокурора наиболее ярко проявляется в стадии рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции.
О том, что прокурор в стадии рассмотрения дела судом - не только государственный обвинитель, неоднократно говорилось в юридической литературе. Так, Н.М. Яковлев пишет: «Прокурор как гарант защиты прав и законных интересов обвиняемого и потерпевшего должен способствовать предоставлению им возможности довести до сведения суда свою позицию по существу дела и те доводы, которые он считает необходимыми для ее обоснования. Данное правило находит свое воплощение в ст. 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии с которой каждый человек, чьи права и свободы нарушены, должен иметь право на эффективные средства правовой защиты в суде».
Согласно ч. 3 ст. 123 Конституции РФ судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Это предполагает предоставление участвующим в судебном разбирательстве сторонам обвинения и защиты равных возможностей по отстаиванию своих прав и законных интересов, включая возможность заявления ходатайств, обжалования действий и решений суда, осуществляющего производство по делу.
Эти конституционные положения обязывают государственного обвинителя учесть то, что необходимой гарантией судебной защиты и справедливого разбирательства дела является равно предоставляемая сторонам реальная возможность довести свою позицию относительно всех аспектов дела до сведения суда, поскольку только при этом условии в судебном заседании реализуется право на доступ к правосудию, которое по смыслу ч. 1 и 2 ст. 46 Конституции РФ и ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод должно быть справедливым, полным и эффективным. В этом проявляется сущность правозащитной функции государства на обеспечение судебной защиты потерпевших от преступлений.
Отстаивая права потерпевших от преступления в уголовном правосудии, прокурор должен иметь в виду, что Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (утверждена Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 г.) предусматривает, что лица, которым в результате преступного деяния причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав, имеют право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за причиненный им ущерб в соответствии с национальным законодательством (п. 4).
Обязанность государственного обвинителя в защите гарантированных прав потерпевшего от преступлений, в том числе путем обеспечения им реальных возможностей отстаивать свои интересы в суде, вытекает из положений ч. 1 ст. 21 Конституции РФ, согласно которым достоинство личности охраняется государством, и ничто не может быть основанием для его умаления. Применительно к личности потерпевшего эта конституционная норма предполагает обязанность прокурора не только предотвращать и пресекать в установленном законом порядке какие бы то ни было посягательства, способные причинить вред и нравственные страдания личности, но и обеспечивать пострадавшему от преступления возможность отстаивать, прежде всего в суде, свои права и законные интересы любыми не запрещенными законом способами, поскольку иное означало бы умаление чести и достоинства личности не только лицом, совершившим противоправные действия, но и самим государством.
УПК РФ, направленный на реализацию всех положений Конституции РФ, относящихся к правам и свободам граждан в уголовном судопроизводстве, принципиально изменил процессуальный статус прокурора, который несет ответственность за доказанность и обоснованность предъявленного обвинения в суде. Прокуратура, осуществляя уголовное преследование, следит за соблюдением прав и свобод всех участников процесса - подозреваемого и обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, т.е. она должна быть эффективной системой правовой защищенности сторон в уголовном судопроизводстве независимо от процессуального положения сторон. В этом конспекте прокуратура должна стать не карательным органом, а системой, обеспечивающей справедливость и законность, стоящей на позициях охраны прав и свобод личности.
В юридической литературе неоднократно отмечалось несовершенство уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего участие государственного обвинителя, да и вообще поддержание обвинения в суде первой инстанции. Так, В.А. Балакшин отмечает, что межотраслевые и внутриотраслевые коллизии законодательства - одна из причин судебных ошибок и нередко низкой эффективности применения закона. Это прежде всего относится к процессуальному законодательству, поскольку нормы процессуального права применяются значительно чаще, а точнее - постоянно, в отличие, например, от норм материального права. Особенно нежелательны коллизии в УПК, ибо последствиями таковых могут быть незаконные решения органов предварительного расследования и суда, что в свою очередь зачастую влечет ущемление прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.
Немало вопросов могут породить скрытые коллизии. К сожалению, в УПК РФ сегодня есть и такие. Одна из них выражается в следующем.
УПК РФ четко разграничил обвинение на государственное и частное, определив при этом, кто является государственным, а кто может быть частным обвинителем.
Согласно п. 6 ст. 5 УПК РФ государственный обвинитель - это поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры. По общему правилу, участие в судебном разбирательстве обвинителя обязательно (ч. 1 ст. 246 УПК РФ). При этом участие государственного обвинителя обязательно в судебном разбирательстве не всех уголовных дел, а только дел публичного и частно-публичного обвинения (ч. 2 ст. 246 УПК РФ). По уголовным делам частного обвинения, согласно ч. 3 ст. 246 УПК РФ, обвинение в судебном разбирательстве должен поддерживать потерпевший.
Казалось бы, эти требования закона достаточно четко определяют и категорию дел, и участников процесса, на которых возлагается поддержание обвинения. Однако такое мнение меняется, если проанализировать нормы, являющиеся специальными по отношению к указанным и связанные с ними.
Так, в соответствии с ч. 4 ст. 321 УПК обвинение в судебном заседании по делам, подсудным мировому судье, поддерживают: 1) государственный обвинитель - в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 и ч. 3 ст. 318 УПК; 2) частный обвинитель - по уголовным делам частного обвинения.
Обращаясь сначала к ч. 4 ст. 20 УПК РФ, а затем к ее частям 2 и 3, мы приходим к выводу, что государственный обвинитель в определенных случаях обязан поддерживать обвинение не только по делам публичного и частно-публичного обвинения, но и по делам частного обвинения.
В соответствии с ч. 4 ст. 20 и ч. 3 ст. 318 УПК РФ это имеет место в случаях, если дело возбуждено следователем или с согласия прокурора дознавателем, когда потерпевший в силу беспомощного состояния или по иным причинам не мог защищать свои права и законные интересы, и после производства расследования направлено в суд. Это требование закона с точки зрения участия государства в обеспечении прав и законных интересов своих граждан представляется вполне справедливым и логичным. В то же время очевидно, что оно противоречит требованиям ч. 3 ст. 246 УПК РФ.
Однако в этом вопросе есть коллизия и другого порядка. Как следует из п. 1 ч. 4 ст. 321 УПК РФ, государственное обвинение по делам, рассматриваемым мировым судьей, поддерживается в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ. Анализ ч. 4 ст. 20 УПК РФ позволяет заключить, что к таковым относятся, во-первых, дела частного обвинения, а во-вторых - частно-публичного обвинения, перечисленные в ч. 3 этой статьи. Однако не все из них, а только возбужденные следователем или с согласия прокурора дознавателем при отсутствии заявления потерпевшего, если указанное в ч. 3 ст. 20 УПК РФ преступление совершено в отношении лица, находящегося в зависимом состоянии или по иным причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами.
Если же, следуя буквальному смыслу анализируемых норм, уголовное дело возбуждено в порядке, предусмотренном ст. 147 УПК РФ, т.е. на основании заявления потерпевшего, не находящегося в зависимом состоянии и способного самостоятельно пользоваться принадлежащими ему правами, то в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 321 УПК РФ обвинение в судебном заседании государственный обвинитель поддерживать не может.
Он лишен такого права в силу приоритета специальной нормы, каковой является требование п. 1 ч. 4 ст. 321 УПК РФ по отношению к ч. 2 ст. 246 УПК РФ. Между тем перечень уголовных дел, возбуждаемых в порядке ст. 147 УПК и подсудных мировому судье, включает четыре состава преступления. Это ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений), ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) и ст. 145 УК РФ (необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет).
Сказанное означает, что потерпевшие, чьи права ущемлены в результате нарушения неприкосновенности их частной жизни, тайны переписки, телефонных переговоров и в других названных выше случаях, в судебном заседании могут лишиться профессиональной и моральной поддержки со стороны государственного обвинителя. Более того, положение п. 1 ч. 4 ст. 321 УПК РФ ставит под сомнение правомерность участия государственного обвинителя и по рассматриваемым мировыми судьями уголовным делам публичного обвинения, так как ст. 321 УПК РФ ограничивает его (государственного обвинителя) участие определенным перечнем дел частнопубличного и частного обвинения.
Устранить коллизию В.А. Балакшин предлагал путем внесения изменений в п. 1 ч. 4 ст. 321 УПК РФ, изложив его в следующей редакции: «4. Обвинение в судебном заседании поддерживают:
1) государственный обвинитель - по всем делам публичного и частно-публичного обви-нения, а также по делам частного обвинения в случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 20 и частью третьей статьи 318 настоящего Кодекса».
Законодатель попытался разрешить указанную коллизию. Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ» от 12 апреля 2007 г. дополнил в том числе ч. 2 ст. 246 УПК РФ словами «а также при разбирательстве уголовного дела частного обвинения, если уголовное дело было возбуждено прокурором или следователем либо дознавателем с согласия прокурора».
Однако не все возникающие проблемы были решены законодателем, в том числе путем внесения последних изменений в УПК РФ.
Особого внимания требует вновь введенная в УПК РФ форма участия прокурора в уголовном судопроизводстве по делам частного обвинения, рассматриваемым мировыми судьями. Названным Федеральным законом ст. 318 УПК РФ была дополнена ч. 8 следующего содержания: «Если после принятия заявления к производству будет установлено, что потерпевший в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы, то мировой судья вправе признать обязательным участие в деле законного представителя потерпевшего и прокурора».
Далее ни в одной норме УПК РФ не конкретизированы полномочия прокурора, вступившего в уголовное судопроизводство в порядке ч. 8 ст. 318 УПК РФ, что неизбежно ставит перед правоприменителем (прежде всего - судьей и прокурором) ряд вопросов.
Так, не совсем ясна процессуальная форма принятия такого решения - об обязательном участии прокурора - судом. Представляется, что принятие такого решения во всех случаях требует вынесения мотивированного постановления мирового судьи, на что следовало указать в ч. 8 ст. 318 УПК РФ по аналогии с ч. 7 ст. 318 и ч. 4.1 ст. 319 УПК РФ.
При внесении изменений в УПК РФ законодатель не конкретизировал, следует ли суду при принятии решения об обязательном участии прокурора выяснять и учитывать мнение других участвующих в деле лиц, в частности, самого потерпевшего (частного обвинителя).
УПК РФ, предусмотрев возможность осуществления производства по уголовным делам в порядке публичного, частнопубличного и частного обвинения, установил, что дела частного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего (его законного представителя), а если потерпевший находится в зависимом или беспомощном состоянии либо по иным причинам не способен самостоятельно защищать свои права и законные интересы, - по решению следователя или с согласия прокурора дознавателя; в случае примирения потерпевшего с обвиняемым такие дела подлежат прекращению (ст. 20, ч. 1 и 3 ст. 318 УПК РФ). Устанавливая эти правила, законодатель исходил из того, что указанные в ч. 2 ст. 20 УПК РФ преступления относятся к числу тех, которые не представляют значительной общественной опасности и раскрытие которых, по общему правилу, не вызывает трудностей, в связи с чем потерпевший сам может осуществлять в порядке частного обвинения уголовное преследование лица, совершившего в отношении него соответствующее преступление, - обращаться за защитой своих прав и законных интересов непосредственно в суд и доказывать как сам факт совершения преступления, так и виновность в нем конкретного лица, минуя обязательные в иных ситуациях (по делам частно-публичного и публичного обвинения) процессуальные стадии досудебного производства.
Диспозитивность в уголовном судопроизводстве применительно к делам частного обвинения выступает, таким образом, в качестве дополнительной гарантии прав и законных интересов потерпевших и как таковая не может приводить к их ограничению. Ее использование в законодательном регулировании производства по делам этой категории не отменяет обязанность государства защищать от преступных посягательств права и свободы человека и гражданина как высшую ценность и обеспечивать установление такого правопорядка, который бы гарантировал каждому государственную, в том числе судебную, защиту его прав и свобод, а каждому потерпевше му от преступления - доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
Таким образом, полагаем, что мнение потерпевшего (частного обвинителя) об обязательном участии в деле прокурора непременно должно выясняться в ходе судебного заседания. Судья может принять такое решение только в случае, если частный обвинитель согласен на это либо хотя бы если он не возражает.
Самый сложный вопрос в связи с введением ч. 8 ст. 318 УПК РФ связан все же с тем, в каком качестве участвует в данном случае в уголовном судопроизводстве прокурор - как обвинитель либо он выполняет какую-то иную процессуальную функцию. Полагаем, что из буквального смысла ч. 8 ст. 318 УПК РФ не следует, что обязательное участие прокурора представляет собой субсидиарное или даже основное выполнение им функции обвинение. Думается, что целью обязательного участия прокурора в этом случае является обеспечение осуществления прав и законных интересов потерпевшего, который в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы самостоятельно. В противном случае законодатель должен был прямо указать, что прокурор выступает как государственный обвинитель, либо хотя бы прямо перечислить те полномочия, которые он имеет, участвуя в судебном заседании по решению мирового судьи. С другой стороны, представляется недопустимым сводить процессуальное положение прокурора в таких случаях только лишь к консультативным функциям, для достижения этой цели достаточно было бы закрепить обязательное участие адвоката-представителя потерпевшего. В любом случае указанная законодательная новелла требует дальнейшего совершенствования.