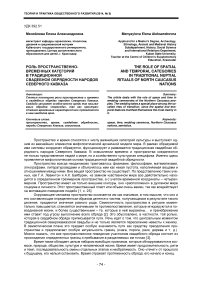Роль пространственно-временных категорий в традиционной свадебной обрядности народов Северного Кавказа
Автор: Меняйлова Елена Александровна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 9, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена роли пространства и времени в свадебных обрядах народов Северного Кавказа. Свадьба занимает особое место среди так называемых обрядов «перехода», так как пространственно-временные характеристики проявляются в нем наиболее ярко.
Пространство, время, свадебная обрядность, народы северного кавказа, семиотика
Короткий адрес: https://sciup.org/14936954
IDR: 14936954 | УДК: 392.51
Текст научной статьи Роль пространственно-временных категорий в традиционной свадебной обрядности народов Северного Кавказа
Пространство и время относятся к числу важнейших категорий культуры и выступают одним из важнейших элементов мифопоэтической архаичной модели мира. В рамках образуемой ими системы координат образуется, функционирует и развивается традиционная свадебная обрядность народов Северного Кавказа. В осмыслении времени и пространства соединяются не только представления людей о мире, но и хозяйственно-культурная специфика. Именно здесь проявляется мифологическая основа традиционной свадебной обрядности.
Пространство всегда неодинаково трактовалось физиками, философами, математиками, этнографами, литературоведами и объяснялось ими как некая пустота, наполняемая вещами и отношениями между ними. Вне вещей пространство не существует. По представлению таких ученых, как Г.А. Левинтон и А.К. Байбурин, «в земном чувственном мире все действительно находится в определенном трехмерном пространстве, а с учетом временной координаты – четырехмерном. Пространство имеет не только внешние контуры, оно «расположено» в духовном мире социума и личности. Этот пространственный пласт или объем очень важен, так как воздействует на мотивацию поведения людей» [1, с. 25].
Окружающее человека пространство осознается им как значимое, в том смысле, что оно и его составляющие определенным образом делятся и частям, получающимся в результате такого деления, придаются значения разного рода. Семиотичность пространства в ритуале моментально повышается; становятся значимыми те противопоставления, которые игнорируются в повседневной жизни, и более существенными – те, которые в ней выражены… и пренебрежение ими ставит под угрозу выполнение всего обряда [2]. Это обусловлено, в частности, той ролью, которая в свадебном обряде приписывается пути. Речь идет о том, что центральным моментом традиционной северокавказской свадьбы и не только является переселение невесты к жениху. В семиотическом плане это придает особую значимость пути как средству преодоления пространства и предполагает особую актуальность границ (очага, порога, реки, дерева и т. д.). Можно сказать, что все пространственное поведение участников свадебного обряда состоит из прохождения определенных границ и пребывания в разделяемых им точках [3].
Время также обладает целым набором всеобщих признаков, которые обнаруживаются в космосе, природе, обществе, культуре и человеческой жизни. Время имеет продолжительность, ритм и темп, последовательность смены отдельных этапов и необратимость. Оно «течет» от прошлого к будущему, его нельзя остановить. Время отражает протяженность обряда, его начало и конец.
В семантическом плане пространство и время имеют огромное значение для очерчивания круга действий обряда. В область характеристик пространства свадебного обряда входит: наполненность вещами-знаками, единство со временем, организованность и деление по горизонтали, основанное на системе бинарных оппозиций (запад – восток, верх – низ, правый – левый, свой – чужой, близкий – далекий). В вертикальном членении оно соотносится с космосом и составляет оппозицию неосвоенному пространству (хаосу) [4, с. 834].
Как категории пространство и время можно проследить на всех этапах свадьбы. В традиционной свадебной обрядности народов Северного Кавказа символическое значение пространства актуализируется уже в предсвадебный период. За невестой отправлялись или в полдень, или с наступлением сумерек второго дня свадьбы. В пути дружки жениха делали краткую остановку у почитаемых камней, родников, деревьев, курганов, холмов, которые обладали особыми свойствами [5, c. 22].
В данном обряде просматривается также древняя народная символика и пространственная семантизация, которая влечет нарушение порядка социума невесты и существующего положения вещей в данной семье. Поэтому пересечение дружками жениха границ пространства, к которому принадлежала невеста, обычно сопровождалось ритуальными, но жестокими стычками. У темиргоевцев всадников жениха, увозящих невесту, аульская молодежь избивала длинными хворостинами. «На протяжении всей дороги во встречающихся па пути аулах повторяются те же сцены побоищ и борьбы», так что «чем ближе подъезжают всадники к своему аулу, тем печальнее их внешность: разорванная одежда, исцарапанные лица, подбитые глаза, кровь» [6, c. 92, 93]. Такие же сцены наблюдаются при взятии невесты у карачаевцев. Родственники невесты, вооружившись хворостинами, избивают поезжан жениха, стаскивают их с лошадей, стараются столкнуть в яму с нечистотами. У балкар молодежь селения невесты обирает поезжан жениха с ног до головы [7, c. 16]. У чеченцев дружков жениха у дома невесты встречают бранью, камнями и выстрелами [8, c. 9].
Дом невесты включается в структуру ритуала как часть пространства, где начинается обрядовое действие, и как сам ритуальный символ (свой – чужой). При этом важнейшей содержательной составляющей дома невесты является его связь с социальной организацией (а именно семьей, которая в нем проживает), где, в свою очередь, в организации домашнего пространства отражается структура семьи. Примером может служить выделение в доме мужской и женской части, места главы дома и возрастных групп. Такое разделение внутреннего пространства отражает зоны его сакральности. Место в центре дома обладает наибольшей сакральностью, место у входа – наименьшей. Левая сторона считается женской, правая – мужской.
Очаг – это символ освоенного пространства дома и его семантический центр, который выступает как точка отсчета при организации ее пространства. Кроме того, очаг – связующее звено между предками и потомками, символ преемственности поколений. В мифоэпической модели мира он соединяет землю, небо, человека, является одним из аналогов центра мира, наделенного созидательными функциями. Центральный опорный столб и очаг с висящей над ним железной цепью являются двумя центрами в доме на Северном Кавказе, через которые проходят свои вертикальные оси. Первый ассоциируется с мировым древом, второй – с линией молнии, небесного огня.
Поэтому неудивительно, что важным этапом свадебного обряда были магические действия, связанные с очагом. Шафер брал под руку невесту, покрытую покрывалом, и подводил ее к очагу. Во время молитвы, которую читал старший из гостей, шафер делал с невестой три полных оборота вокруг очага. Невеста, после того как шафер подвел ее к очагу, должна была трижды прикоснуться к цепи и отходила от нее, не поворачиваясь спиной и кланяясь. Этот же обряд повторялся на третий день свадьбы в доме у жениха.
Аналогичный обряд описал собиратель осетинского фольклора Д. Темираев, с тем лишь исключением, что в действии используется важный элемент – зеркало: «Вечером, перед тем, как увозят невесту, старший шафер и второй шафер, у которого зеркало в руке, и еще десяток юношей входят в хадзар к хозяйкам, чтобы начать путь от очажной цепи [9, с. 54]. Зеркало «удваивало» пространство и наполняющие его вещи. Зеркало – это семиотическая граница между «своим» и «чужим», но одновременно и окно в иной, возможный мир.
Другим семантически значимым объектом в традиционной свадьбе является дверь, и особенно порог. Дверь отделяет дом невесты от окружающего неосвоенного «чужого» пространства; дверь – граница внешнего и внутреннего, освоенного и неосвоенного миров, это граница между чуждым миром и миром домашним. Поэтому пересечение этой границы как в ту, так и в другую сторону было сопряжено с соблюдением ряда правил, которые вошли как составная часть в культуру общения, имеющую этническую специфику и отражающую некоторые общечеловеческие закономерности.
Следующим этапом свадебного обряда был перевод невесты в дом жениха. Перевозили невесту на арбе, которая становилась временным, переходным «жилищем» девушки. Сопровождала невесту многочисленная свита ее подруг, несколько мужчин и пожилая женщина, которая несла ответственность за невесту, чаще это была жена дяди по отцу или жена старшего брата [10]. Перемещение невесты, а также ее расположение в ходе свадебных игрищ подчинялось целому ряду правил. Арба с невестой находилась всегда в центре свадебного поезда, впереди и позади двигались колонны всадников [11, c. 31].
Одной из главных границ пути, который преодолевал свадебный поезд, была река . Реки и другие водные источники обладали особым семиотическим статусом границ. Считалось, что многие свойства людей и предметов изменялись после перехода через реку. Так, у черноморских шапсугов путник терял статус гостя, перейдя через семь водных потоков на пути от принявшего его дома [12, с. 14].
Следующим важным элементом в пространственной символике кавказского свадебного обряда выступают ворота дома жениха, приблизившись к которым участники свадебного поезда, представляющие собой чужой, враждебный элемент, вновь преодолевали целый ряд всевозможных препятствий: костер из соломы, ожесточенное сопротивление пеших, вооруженных дубинками. Кроме этого, невесту задерживали на плясовой площадке, в самом центре круга. Это место было идеологическим центром игрища, таким образом, как полагает Б.Х. Бгажноков, благодаря обряду задержания невесты в плясовом круге, устанавливалась связь новобрачной с группой, с общиной (горизонтальный срез), а также с божествами (вертикальный срез) [13, с. 32].
После этого невеста, являвшаяся «опасной» для семьи жениха, вместе с подругами помещалась в отдельное помещение, в котором должна была ждать своего супруга. Оно представляло собой либо отдельный домик, либо отдельную комнату в доме. У абхазов этот переходный домик назывался «амхара» [14, с. 165].
Аналогичный переходный домик существовал и для жениха, который, избегая старших родственников, прятался в доме своего друга до определенного обряда [15, с. 29]. Дом назывался «другой» [16, с. 135] или же «промежуточный» [17, с. 291]. Помимо своего обрядового назначения уход новобрачного в «чужой дом» имел практическую цель – служил средством установления искусственного родства между отдельными семьями. Новобрачный оставался в промежуточном доме до конца свадьбы, после чего устраивали ритуал возвращения жениха домой. День возвращения жениха домой адыги называли термином «Шъэощэжь маф» – «День привода жениха домой» [18, с. 47].
Наличие такой нейтральной зоны, которая образуется наложением друг на друга зон пространства жениха и невесты и оказывается «нейтральной зоной», является существенным для свадьбы фактом [19, с. 99]. С точки зрения обрядов перехода, переезд невесты и жениха невозможен внутри организованного упорядоченного пространства мира. Для перехода необходимо покинуть освоенное пространство, в котором доминирует порядок, «космос», и перейти в мир «хаоса». А нейтральная зона является тем промежуточным пространством, которое служит необходимым условием самого перехода [20, с. 168, 169].
Переезд невесты к жениху воспринимается не только как переход в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной. Она была как бы сонной или мертвой; ее укутывали, закрывали, а перевозили чаще всего ночью. Поэтому перемещение невесты воспринималось также как «смерть» девушки для ее родной семьи и как ее «рождение» в новом статусе в другой семье. И надо отметить, что эта граница «рождения» [21, с. 98] находится в нейтральной зоне. Помещение невесты в отдельное помещение – это ритуал, отмечающий пересечение границы между одной социальной категорией и другой. Этот переход – интервал социального безвременья [22, с. 45].
Некоторое время после свадьбы молодой муж к молодой жене приходил поздно ночью и иногда входил к ней через окно, чтобы никто не видел и уходил от нее рано утром [23, с. 29]. В первое посещение, которое происходило после полуночи, молодого мужа в дом жены сопровождал кто-нибудь из близких друзей. Войдя в саклю, муж садился на кровать, пока жена в это время сидела в углу около кровати, с головы до ног покрытая шалью» [24].
Однако в самых разных фольклорных и этнографических традициях прочно сохранились представления об опасности сочетания с женщиной в первую брачную ночь. Опасность эта исходила от невесты, которая, с одной стороны, прибыла из враждебного периферийного пространства, с другой – сама находится в переходном состоянии: она «умерла» для своей семьи и должна «родиться» в семье мужа. Так, например, в одной из осетинских сказок волшебный помощник помогает герою тем, что убивает змею, которая жила в ней. Если бы он не выкинул и не разрубил змею, говорит старик, то, когда бы жених лег с ней впервые, умер бы от ядовитого запаха из ее рта. Вообще, мотив убийства змея, существа из нижнего мира, перед первой брачной ночью широко распространен в осетинских сказках [25, с. 328].
Утром на второй день свадьбы совершался обряд открывания лица: в этот день снимали с новобрачной покрывало. Для церемонии «открытия» лица новобрачной муж выбирает приятеля (который после обряда становится родственником), который отправляется в саклю и там палкой, обмотанной с конца шелковой материей, сбрасывал покрывало [26]. Подобный обычай существовал и у адыгов и назывался унэищэ. Его отголоском можно считать то, что в «большом доме» у новобрачной с возможной быстротой с помощью стрелы приподнимается покрывало (шхъэтепхъуэ) [27, с. 151].
После ввода невестки в большой дом, через 5–6 дней после свадьбы, устраивалось обрядовое шествие невестки к воде. Новобрачная с кувшином и чашкой блинов, в сопровождении женщин, девушек и детей шла к реке (или роднику) и бросала несколько блинов в воду, предварительно проколов каждый из них иглой или булавкой. Абхазские невесты несли к водному источнику аквак-вар (колобок) и яйцо. Сопровождающие ее женщины, в том числе свекровь, молили в «воде находящуюся» дзызлан-дзахкуаж – «царицу вод», чтобы она разрешила молодой невестке беспрепятственно брать воду, оградила ее от болезней и покровительствовала в хозяйстве. Затем, обводя яйцо три раза вокруг головы невестки, бросали его в речку. Вместе с яйцом в воду бросали и часть акваквара [28, с. 174]. Все, кто был у родника с невестой, набрав вместе с невестой чистую воду, возвращались домой. С этого момента невеста могла считаться полноправной хозяйкой и получала право ходить за водой и посещать некоторые общественные мероприятия.
В процессе свадебного обряда осуществлялось перемещение женщины из одного семейного пространства в другое, соответственно превращение оппозиции свое – чужое в оппозицию центральное – периферийное, имеющую смысл только в «своем» («внутреннем») пространстве.
В традиционной свадебной обрядности народов Северного Кавказа эмпирическое и мифологическое пространства противостоят друг другу как профанное и сакральное, где граница между ними встречается постоянно. Это касается и времени. В глубинном пласте свадьбы выделяются сакральные действия миротворения и хаоса, где посредством обряда выстраивается порядок.
Ссылки:
-
1. Байбурин А.К., Левинтон Г.А. К описанию организации пространства в восточно-славянской свадьбе // Русский народный свадебной обряд. Исследования и материалы. Л., 1978.
-
2. Там же. С. 91.
-
3. Там же. С. 90–91.
-
4. Топоров В. H. Пространство // Мифы народов мира. М., 2008.
-
5. Кудаев М.Ч. Старинная карачаево-балкарская свадьба (на русском языке) // Нальчик, 2011.
-
6. Васильков В.В. Очерк быта темиргоевцев // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа.
-
7. Грабовский Н.Ф. Свадьба в горских обществах Кабардинского округа // Сборник сведений о кавказских горцах.
-
8. Ипполитов А. Этнографические очерки Аргунского округа // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. 1. Тифлис, 1868.
-
9. Газданова В.С. Традиционная осетинская свадьба: миф, ритуалы и символы. Владикавказ, 2003.
-
10. Алимова Б.М. Брак и свадьба в прошлом Дагестана [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 19.04.2014).
-
11. Бгажноков Б. Х. Черкесское игрище. Нальчик, 1991.
-
12. Дмитриев В.А. Пространственно-временное поведение в традиционной культуре народов Северного Кавказа : авто-реф. дис. … д-ра ист. наук. СПб., 2010.
-
13. Бгажноков Б. Х. Указ. соч.
-
14. Чурсин Г.Ф. Материалы по этнографии Абхазии. Сухуми, 1957.
-
15. Кудаев М.Ч. Указ. соч.
-
16. Косвен М.О. Очерки первобытной культуры. М., 1957.
-
17. Хан-Гирей. Записки о Черкесии. Нальчик, 1978.
-
18. Джандар М. А. Песня в семейных обрядах адыгов. Майкоп, 1991.
-
19. Байбурин А.К., Левинтон Г.А. Указ. соч.
-
20. Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983.
-
21. Байбурин А.К., Левинтон Г.А. Указ. соч.
-
22. Геннеп А. ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М., 1999.
-
23. Кудаев М.Ч. Указ. соч.
-
24. Казиев Ш.М., Карпеев И.В. Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке [Электронный ресурс]. URL: http://ossethnos.ru/ethnology/187-zerkalo-v-svadebnoy-obryadnosti-osetin.html (дата обращения: 8.05.2014).
-
25. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.
-
26. Казиев Ш.М., Карпеев И.В. Указ. соч.
-
27. Сообцокова Н.И. Адыги-черкесы: люди, нравы, обычаи и традиции. Краснодар, 2010.
-
28. Чурсин Г.Ф. Указ. соч.
Тифлис, 1901. Вып. XXIX. Отд. 1.
Тифлис, 1868. Вып. 2.