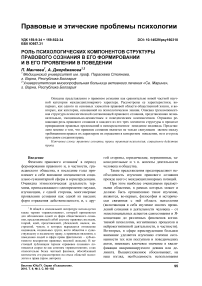Роль психологических компонентов структуры правового сознания в его формировании и в его проявлении в поведении
Автор: Манчева Параскева, Джорджанова Аделина
Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu
Рубрика: Правовые и этические проблемы психологии
Статья в выпуске: 3 т.9, 2016 года.
Бесплатный доступ
Описаны представления о правовом сознании как сравнительно новой частной научной категории междисциплинарного характера. Рассмотрены ее характеристики, во-первых, как одного из основных элементов правовой области общественной жизни, и во-вторых, как категории, основанной на психологическом знании. Описана трехкомпонентная структура психологической составляющей правового сознания, представленная познавательным, эмоционально-ценностным и поведенческим компонентами. Отражена решающая роль правового сознания и каждого из его трех элементов структуры в процессе превращения правовых предписаний в непосредственное поведение индивида. Представлено мнение о том, что правовое сознание является не только связующим звеном между требованиями права и их характером их отражения в конкретном поведении, но и его роль при самом создании права.
Правовое сознание, право, правовая психология, социальное действие права
Короткий адрес: https://sciup.org/147160034
IDR: 147160034 | УДК: 159.9:34 | DOI: 10.14529/psy160310
Текст научной статьи Роль психологических компонентов структуры правового сознания в его формировании и в его проявлении в поведении
Феномен правового сознания1 в период формирования правового и, в частности, гражданского общества, в последние годы привлекает к себе внимание специалистов социально-гуманитарной сферы и юриспруденции. Очевидна этимологическая дуальность термина, принадлежащего одновременно наукам, изучающим, с одной стороны, многомерные проявления сознания как одной из высших форм отражения действительности, и, с дру- гой стороны, юридические, нормативные, законодательные и т. п. аспекты деятельности человека и общества.
Такие представления предопределяют необходимость изучения правового сознания прежде всего с междисциплинарных позиций.
При этом наиболее очевидными предметными областями, в рамках которых может и должно быть организовано такое изучение, являются, во-первых, философия и исторически связанная с ней область психологии (включающая в себя изучение многих проявлений сознания в деятельности человека – от экзистенциальных аспектов самосознания и Я-концепции до различных феноменов когнитивной психологии, когнитивных процессов и нейрокогнитивной деятельности, в частности). Во-вторых, в сфере юриспруденции большое внимание уделяется изучению степени осознанности тех или поступков и поведенческих актов, имеющих ключевое значение в квалификации инкриминируемого деяния или де-линкта. Вышеизложенное обосновывает, на наш взгляд, необходимость использования междисциплинарного подхода в изучении феномена правового сознания: как объекта психологического исследования в рамках изучения проблемы сознания, с одной стороны, и как объекта исследования осознаваемых процессов инициации и регуляции имеющих правовое значение действий и деятельности.
Следует отметить, что в ХІХ веке, на первоначальном этапе введения в практику понятия «правовое сознание», оно еще не имело какого-либо полностью обособленного содержания. В частности, в немецкой правовой школе, отличавшейся весьма строгим подходом к отбору, определению и дескриптирова-нию понятий и терминов, длительное время существовал и использовался термин «правовое чувство» Наряду с этим, применялось и этимологически близкое к нему понятие «правовое переживание». Попытка раскрытия социального генезиса оценок и отношений к праву при «правовом переживании» позволила Л. Петражицкому при разработке психологической теории права2 выделить феномен «интуитивного права». При этом собственно правовые переживания были отнесены им к сфере компетенции официального права, а неосознаваемое «чувствование» (исходные или приобретенные абстрактно-образные, нормативно не конкретизированные или не оформленные связи представлений субъекта с положениями юридических законов, норм и правил) признано относящимся к «интуитивному праву». В то же время, по мнению Л. Петражицкого, интуитивное право является феноменом более высокого уровня иерархии, поскольку часто выполняет функцию корректирования при принятии правильных законодательных решений либо при внесении изменений и уточнений в законы, подзаконные акты, кодексы и иные ранее утвержденные нормативно-правовые акты юридического характера.
В целом концепция Л. Петражицкого, несмотря на свою некоторую усложненность и иерархическую неоднозначность, представляет собой основу для конституирования одной относительно ясной, как нам представляется, модели правового сознания. В этой модели правовые аспекты проявлений чувств, ощущений и эмоций приобретают очевидное не только юридическое, но и психологическое знание, занимая особое место в структуре такой инсталяции (Петражицкий, 2000).
В ставшими классическими публикациях Э. Дюркейма и М. Вебера по этому вопросу центральное место отведено разграничению правового сознания от его аналогов, в частности – от политического, морального и религиозного сознания. При этом наиболее значимым является сравнение правового и политического сознания как проявлений основных типов законодательного господства (власти). Граница между этими типами сознания (фактически – диапазон отношений между правом и политикой, и, соответственно, между правовым и политическим сознанием), по мнению Макса Вебера, является очень гибкой (Weber, 1966).
В этом отношении сохраняют свою объяснительную силу исследования Э. Дюркейма об анализе «правового факта» и о его восприятии личностью на базе «морального факта» (см., например, Cotterrell, R., 1999). Исходя из этого, Макс Вебер считает, что связь между моральным и правовым сознанием не следует рассматривать однозначно. В качестве примера и доказательства такого мнения он приводит факт неимоверного увеличения числа не-одобряемых социумом нелегальных абортов в период, предшествующий законодательному разрешению этой проблемы законным путем (Weber, 1966)
Джованни Сартори выражает точку зрения о том, что «любое несправедливое право, хотя и созданное при соблюдении всей легальной формы законодательного процесса, снова остается несправедливым, но оно является правом-ловушкой» (Sartori, G., 1998). Он приводит пример тоталитарного (авторитарного) управления, в рамках которого меха- низм реализации права является фактически навязанным «извне», что приводит к отсутствию интернализации действующих в такой ситуации правовых норм.
В более поздние времена формируется точка зрения о связи между политическим и правовым сознанием, в центре современной интерпретации которой находятся синтезированные в новых условиях представления о «Rule of Law» [Наумова, 2003; Аграновская, 1988; Баранов, 1992.]. Как следствие, в всем мире и в Республике Болгария, в частности, правовое сознание в последние годы все чаще рассматривается как фактор, играющий существенную роль в механизме социального действия и реализации права, что предопределяет его выбор в качестве объекта прежде всего правовых социологических исследований. (Наумова, 2008; Burke, Balch, 2011; Parsons T., G.Patt, 1972; Бегинин, 1993; Белканов, 1996). В отличие от этого, правовое сознание достаточно редко является объектом научных исследований, проводящихся с психологических позиций.
Сущность и структура правового сознания
Термин «правовое сознание» используется в профессиональной правовой литературе недавно. Несмотря на существующие различия в трактовке феномена правового сознания, почти все авторы выражают в той или иной степени согласованные мнения по вопросу его структуры. В частности, общими являются представления о том, что дефиниция правового сознания содержит в себе три основных элемента, которые связаны в целостную структуру и в целом раскрывают содержание этого понятия.
Правовое сознание определяется в целом как сфера общественного, группового и индивидуального сознания, которая отражает правовую реальность под формой правовых знаний, оценочных отношений к праву и практики его приложения, правового настроя и ориентации ценностей, регулирующих поведение в юридически значимых ситуациях (Наумова, 2000, 2001).
Сходное определение приводится и в некоторых русскоязычных монографических источниках теоретического плана (Бура, 1986; Горячева, 1979 и др.). В частности, правосознание рассматривается в качестве одной из форм общественного сознания, представляю- щей собой идеальное отражение правовых явлений в сознании людей (Диаконов, 2004). Такое понимание позволяет рассматривать правосознание как фрагмент субъективной реальности, как совокупности представлений людей о праве, как явлении социальной жизни. Как следствие, требуется исследование системы субъективных представлений человека, группы людей, общества в целом об объективном праве, формирующихся в временной развертке от прошлого до будущего через настоящее.
В настоящее время существует несколько вариантов структурных классификаций применительно к правовому сознанию. В структуре правового сознания выделяются, в частности:
-
• формы проявления правосознания (правовая идеология; правовая психология; индивидуальные знания о праве; личностные ценности индивида; субъективная воля индивида);
-
• виды правосознания (индивидуальное, групповое, корпоративное, массовое, общественное правосознание);
-
• элементная база структуры правосознания (информационный, оценочный, волевой элементы правосознания);
-
• уровневая структура правосознания по глубине отражения правовой деятельности (обыденное, теоретическое [научное] и профессиональное правосознание);
-
• функции правосознания (познавательная, оценочная, регулятивная, прогностическая функция или функция моделирования).
При исследовании проблемы структуры правового сознания представляется объяснимым интерес прежде всего к правовой психо-логии3 как ее составляющей. Правовая психология основана преимущественно эмоционально-чувственной оценке правовых явлений и включает в себя чувства, эмоции, настроения, переживания, иллюзии, привычки, стереотипы, формирующиеся преимущественно на стихийном, интуитивном, неконтролируемом разумом уровне правосознания (Диако- нов, 2004). Обобщение вышеизложенного позволяет обосновать мнение о том, что человек воспринимает право не только разумом, но и эмоционально, как бы чувствуя правовое воздействие. При этом важно, что эмоциональное отношение к праву и эмоциональное состояние человека может предопределять определенный тип правового поведения, в частности – правомерного или неправомерного.
Другой аспект исследования проблемы правового сознания связан с признанием его роли как связующего звена между правом и реальным человеческим поведением (Наумова, 2005; Burke, Balch, 2011). Этот аспект проявляется в понимании правосознания как своеобразного синтез права (ius) и справедливости (iustum).
Специфической особенностью правового сознания является то, что оно отражает в индивидуальном сознании субъекта правовую действительность и содержащиеся в правовых нормах права и обязанности. При этом сами нормы являются «носителями» определенного содержания правового сознания, имеющегося как у законодателя, так и у источника власти. С другой стороны правовое сознание является составной частью содержания правовой области общественной жизни (ПООЖ), которая, в свою очередь, является основным элементом в социологической структуре общества (см. рисунок).
Описанные выше структурные классификации правового сознания позволяют, тем не менее, предложить не только «широкое» поле его рассмотрения (применительно к иерархически более высокой правовой области общественной жизни), и «узкое» понимание структуры правового сознания (как феномена, имеющего, в том числе, и психологическую природу).
Структура правового сознания как психологического явления включает в себя, по нашему мнению, следующие основные элементы:
-
а) познавательный, соотносимый с когнитивной сферой личности (например, правовая информативность, осведомленность);
-
б) эмоционально-ценностный, соотносимый с эмоционально-личностной сферой (например, личностные оценки, отношения, ценностные и иные психологические ориентации к праву и к практике его применения);
-
в) поведенческий, соотносимый с мотивационно-поведенческой сферой (например, наличие навыков правового релевантного поведения либо готовность/способность к такому поведению).
Каждый из структурообразующих элементов играет специфическую роль в сложном процессе превращения правовых предписаний в правовое значимое поведение. Такого рода специфическая роль описана и в некоторых русскоязычных публикациях (Ильин, 1993; Кудрявцев, 1990; Кукушкина, 1986).
По нашему мнению, наиболее существенным компонентом правового сознания является правовая осведомленность (знание права), так как она лежит в основе создания и развития остальных двух элементов – эмоционально-ценностного и поведенческого.
Углубленное знание права как одна из составляющих правового сознания является необходимой предпосылкой для его соблюдения и для обеспечения правовой дисциплины. Проблема, касающаяся правовой осведомленности общества (отдельные адресаты правовых норм, социальные группы), имеет суще-

Место правового сознания в структуре правовой области общественной жизни
ственное значение для проведения правовой политики, для защиты прав граждан, для осуществления тех видов деятельности, которые требуют точного соблюдения Конституции, законов и подзаконных нормативных актов.
В общих чертах проблема правовой осведомленности сводится к установлению общего уровня знания права, механизмов передачи правовой информации и ее аккумулирования в индивидуальном и групповом сознании в виде правовых знаний. В ряде научных публикаций ставится вопрос о той степени правовой осведомленности, которая может быть принята за оптимальную (Mason, Smith, Lanrie, 2002; Olley, Carr, 2008). В связи с этим делается разграничение между осведомленностью по поводу правовых принципов и осведомленностью по поводу конкретных правовых норм.
Оптимальная степень правовой осведомленности характеризуется тем, что каждый человек располагает:
-
а) самой общей информацией, касающейся права – правовыми нормами, функциями государства, функциями основных законодательных, исполнительных и судебных государственных органов);
-
б) информацией, необходимой с учетом исполняемой социальной роли;
-
в) информацией, необходимой для достижения человеком оптимальной правовой осведомленности.
Представляется обоснованным мнение о том, что информации первого вида должна быть одним из неотъемлемых основных прав человека, а принцип «незнание закона не освобождает от ответственности» делает вопрос о правовой осведомленности стабильно актуальным (особенно в ситуации существенного изменения законодательства и правовых норм), и, в то же время, ставит актуальным вопрос о механизме формирования и развития правовой осведомленности (Раданов, 2006).
Правовая осведомленность представляет собой тот элемент правового сознания человека, в котором доминирует познавательное содержание права. В этом смысле накопление правовых знаний является начальным этапом в сложном процессе психологического воздействия права на индивидуальное и групповое правовое сознание, осуществляемого с целью формирования субъективно значимого эмоционально-ценностного отношения к праву (в узком смысле – психологически обоснованного эмоционально-оценочного и осмыс- ленного отношения), или, другими словами, приводит к формированию второго элемента – эмоционально-ценностного (в узком понимании – субъективного психологического).
Этот элемент правового сознания содержит оценочные суждения, мнения, отношения и ориентации, формированные как на базе накопленных правовых знаний, так и в процессе постоянного влияния различных факторов правовой области на индивидуальное и групповое сознание. Подчеркнем, что что правовая осведомленность определяет в той или иной мере и содержание психологического элемента правового сознания (Иванов, 1990).
Как правило, правовые нормы (в том числе, и интериоризированные субъектом правовые нормы) указывают на оптимальный вариант поведения – на возможности, цели и средства для достижения субъектом определенного индивидуального, группового или общественного интереса. При этом, вероятно, они косвенно воздействуют на индивидуальное сознание и, таким образом, активно содействуют формированию субъективного психологического элемента содержания правового сознания, предопределяя характер правовых решений с риском нарушения баланса между ожиданиями субъекта и общества, с одной стороны, и законодательным процессом – с другой (Наумова, 2001).
В случае формирования отрицательного отношения к праву, в свою очередь, может появляться нигилистическое отношение к нему, и, как следствие, может формироваться сознательное девиантное поведение (Parsons, Patt, 1972).
В плане оценки механизмов формирования правовой осведомленности и субъективно-значимого отношения к праву следует подчеркнуть, что перед законодателем стоит сложная задача предвидения возможной реакции общества на ту или иную законодательную инициативу, на конкретное законодательное решение и на возможные последствия его вступления в силу. При этом блокирование восприятия той или иной правовой информации либо неуспешное формирование необходимого уровня и качества правовой осведомленности имеет сложную природу. Так, конституционно гарантированные процедуры обеспечивают фактически тройной контроль принятия законодательных решений (парламентские слушания в различных ко- миссиях с последующим неоднократным го-лосованием4, возможность наложения вето Президентом страны, последующий контроль со стороны Конституционного суда законодательных актов и правоприменительной практики на предмет их соответствия Конституции) создают возможность максимально избежать принятия волюнтаристских решений. С другой стороны, противодействие со стороны общества и возможное негативное общественное мнение может быть вызвано не самой юридической процедурой принятия законодательного акта и конституционно гарантированным разделением власти, а отсутствием согласия в социуме и у отдельных индивидов с содержанием этого акта (Сальников, 1991; Серов, 1996; Шегорцев, 2001; Правовая культура…, 2003).
Третий элемент в структуре правового сознания – поведенческий (готовность/способ-ность/наличие навыков релевантного по отношению к праву осознанного поведения), рассматривается как завершающее звено всего сложного механизма накопления правовых знаний, создание определенной эмоциональноценностной ориентации к праву и непосредственной реализации их в повседневном поведении. Он включается при попадании в реальные, правовые значимые ситуации, и не может существовать отдельно как самостоятельный элемент анализа и исследования (как это наблюдается в отношении правовой осведомленности) и имеет своим результатом, например, девиантное либо нормативно-конформное поведение (в качестве маргинальных проявлений всего континуума возможных проявлений связанного с правовым сознанием поведения), а также множество других «промежуточных» (по отношению к этим маргинальным паттернам) поведенческих вариантов.
Особенности причинно-следственных связей правового сознания и правового релевантного поведения детерминированы особой ролью права во всей описываемой структуре. Так, по мнению Э. Дюркейма, на первый план проблемы правового сознания выходит функциональная зависимость между ним и правовым поведением. При этом вопрос правового принуждения, по мнению Парсона, занимает в этих процессах основное место (Parsons, Patt, 1972).
В механизме формирования правового релевантного поведения каждый из перечисленных выше элементов правового сознания играет определенную роль. Правовая осведомленность как основной и триггерный элемент правового сознания содержит как знание обязательных для всех людей норм права, так и возможность наложения предусмотренных законами санкций при их нарушении. В тоже время сама по себе правовая осведомленность не является достаточным условием для комфортного нормативного поведения, поскольку многочисленные криминологические исследования доказывают отсутствие прямой корреляционной зависимости между знанием человеком норм уголовного права и совершением (не совершением) им какого-либо преступления.
При формировании мотивов конкретного (в правовом плане) поведения и в самом таком поведении, свою роль, помимо правовой осведомленности, играет и эмоциональноценностный (субъективный психологический) элемент – способ, на основании которого субъектом воспринимается, оценивается и интериоризируется та или иная правовая норма, формируется ценностно-цельное и осмысленное отношение к ней. В этом смысле обязательный для всех людей характер правовых норм может осуществлять свое регулятивное действие, если имеет место их принятие и переосмысление индивидом, если эти правовые нормы включаются в структуру правового сознания и в дальнейшем «преломляются» (трансформируются) в нем результате обретения человеком нового опыта отношения к праву и значимого правового поведения.
Различная степень принятия правовых норм определяет поведение граждан в значимых в правовом отношении ситуациях и отражается на их правовой социализации, а их повседневное проявление правового сознания в непосредственном поведении играет решающую роль в механизмах интериоризации правовых норм как осознанных мотивированных источников правового поведения.
Заключение
В распространенных положениях правовых доктрин чаще всего подчеркивается значение правового сознания в механизмах социального действия права. Несмотря на всеобщий обязательный характер, сами по себе правовые нормы не могут напрямую осуществлять свое регу- лятивное действия, если они не «преломляются» через призму правового сознания. При этом очевидно, что такое «преломление» имеет индивидуальную в психологическом плане природу, поскольку в отдельных случаях при формально одинаковых представлениях о правовых нормах одни люди характеризуются законопослушным поведением, а другие – совершением неправомерных деяний. В психологическом плане мотивация этих двух различных типов поведения является отражением различных по степени выраженности проявлений восприятия и интериоризации правовых норм и отношения к ним в индивидуальном сознании, в частности – в правовом сознании как одной из его составляющих. В конечном итоге именно мотивационно-поведенческий компонент структуры правового сознания в результате определяет и различную степень правовой социализации личности.
Список литературы Роль психологических компонентов структуры правового сознания в его формировании и в его проявлении в поведении
- Аграновская, Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности/Е.В. Аграновская. -М., 1988.
- Баранов, П.П. Правовой нигилизм и его преодоление в сфере прокурорского надзора за исполнением законов/П.П. Баранов. -Тверь, 1992.
- Бегинин, В.И. Общественное правосознание и государственность/В.И. Бегинин. -Саратов, 1993.
- Белканов, Е.А. Лояльность правосознания/Е.А. Белканов//Российский юридический журнал. -1996. -№ 3.
- Бура, Н.А. Функции общественного правосознания/Н.А. Бура. -Киев, 1986.
- Горячева, А.И. Общественная психология/А.И. Горячева. -Л., 1979.
- Диаконов, В.В. Теория государства и права. Учебное пособие по теории государства и права//Диаконов В.В. Allpravo.RU. -2004 (http://www.allpravo.ru/library/doc108p/instrum151/item2788.html)
- Иванов, В. Политическая психология/В. Иванов. -М., 1990.
- Ильин, И.А. О сущности правосознания/И.А. Ильин. -М., 1993.
- Кудрявцев, В.Н. Право как элемент культуры/В.Н. Кудрявцев//Право и власть. -М., 1990.
- Кукушкина, Е.И. Обыденное правосознание, обыденный опыт и здравый смысл/Е.И. Кукушкина//Философские науки. -1986. -№ 4.
- Наумова, Ст. Социологията на правото -актуални проблеми и перспективи/Ст. Наумова. -Юридически свят, 2000.
- Наумова, Ст. Основни въпроси на теорията и социологията на законодателния процесс/Ст. Наумова//Алтернативи. -2001. -№ 7-8. -С. 83-86.
- Наумова, Ст. Легитимност на правната принуда в контекста на принципа Rule of Law/Ст. Наумова//Сборник “Научни трудове на РУ “А.Кънчев”. -2003. -Т. 39, сер. 5. Правни науки, Русе. -С. 47-53.
- Наумова, Ст. Правно-социологически параметри и емпирични характеристики на законодателната власт/Ст. Наумова. -София, ИПН, БАН, 2005.
- Наумова, Ст. Правно-социологическите изследвания в контекста на европейските стандарти/Ст. Наумова.//Правна мисъл. -2008. -№ 3. -С. 81-91.
- Петражицкий, Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности/Л.И. Петражицкий. -СПб.: Изд-во «Лань», 2000. -608 с. -(Серия «Мир культуры, истории и философии»)
- Правовая культура как конститутив жизненного пространства личности в гражданском обществе//Научный и общественно-теоретический журнал «Государственное и муниципальное управление. Учёные записки СКАГС». -2003. -2.
- Раданов, Ст. Съдебна медицина и медицинска деонтология/Ст. Раданов. -София: Сиела, 2006.
- Сальников, В.П. Правовая культура: проблема формирования гражданского общества и правового государства/В.П. Сальников//Демократия и законность: проблемы развития и соотношения. -Самара, 1991.
- Серов, Г.П. Основы правовой культуры гражданина России: учебное пособие/Г.П. Серов. -М.: Изд-во МНЭПУ, 1996.
- Шегорцев, В.А. Социология правосознания/В.А. Шегорцев. -М., 2001.
- Burke, J.B. Some “Conscience” Laws Authorize Involuntary Euthanasia/J.B. Burke, J.D. Balch//National Right to Life News. -2011. -April/May. -Р. 9.
- Cotterrell, Roger. Emile Durkheim: Law in a Moral Domain. -Edinburgh University Press/Stanford University Press, 1999.
- Mason, J. Low and medical ethics/J. Mason, R. Smith, G. Lanrie. -London, 2002.
- Olley, L.M. The Use of a Patient-Based Questionnaire (The Oxford Shoulder Score) to Assess Outcome After Rotator Cuff Repair/L.M. Olley, A.J. Carr//Ann R Coll Surg Engl. -2008. -May. No. 90 (4). -P. 326-331.
- Parsons, T. Higher education and changing socialization/T. Parsons, G. Patt//Aging and Society: A Sociology of Age Stratification. -New York, 1972.
- Sartori G. Teoria demokracji/G. Sartori. -Warszawa, PWN, 1998. -P. 394-405.
- Weber, M. On Law and Economy in Society/M. Weber. -Cambridge, Massachusetts: Harvard U.P., 1966.