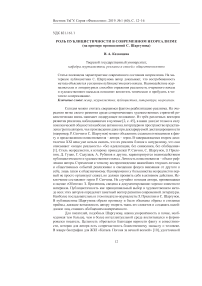Роль публицистичности в современном неореализме (на примере произведений С. Шаргунова)
Автор: Казанцева Ирина Александровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена характеристике современного состояния неореализма. На материале публицистики С. Шаргунова автор доказывает, что востребованность метода объясняется усилением публицистического начала. Взаимодействие журналистских и литературных способов отражения реальности, очеркового начала и художественного вымысла позволяет воплотить типическое и пробудить в читателе сопереживание.
Жанр, журналистика, публицистика, литература, неореализм
Короткий адрес: https://sciup.org/146281337
IDR: 146281337 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Роль публицистичности в современном неореализме (на примере произведений С. Шаргунова)
Сегодня можно считать свершимся фактом реабилитацию реализма. На очередном витке своего развития среди соперничающих художественных стратегий реалистическая вновь занимает лидирующее положение. Из трёх различных векторов развития реализма, наблюдавшихся в нулевые [2, с. 45], в наши дни (не только в силу поколенческой общности) наиболее активно на литературном пространстве представлена группа авторов, чьи произведения даже при декларируемой дистанцированности (например, Р. Сенчин и С. Шаргунов) можно объединить сходным отношением к факту и представлению повествователя – автора – героя. В завершающемся втором десятилетии XXI века уже нельзя сказать, что их реализм близок к натурализму, что они описывают «новую реальность» «без идеализации, без символики, без обобщения» [1]. Стиль неореалистов, к которому принадлежат Р. Сенчин, С. Шаргунов, З. Прилепин, Д. Гуцко, Г. Садулаев, А. Рубанов и другие, характеризуется взаимодействием публицистического и художественного начал. Личность повествователя – объект рефлексии автора. Стремление к точному воспроизведению важнейших текущих личных и общественных событий реализовано в смещении фокуса внимания от другого к себе, лишь затем к общезначимому. Одновременно у большинства неореалистов первый не просто организует сюжет, но должен проявить себя в активном действии. Исключение составляют герои Р. Сенчина. Не случайно позиция автора, проявившаяся в оценке «Обители» З. Прилепина, сведена к документированию хорошо известного материала. Публицистичность как принципиальный выбор в художественном методе всех этих авторов определяет заметный вектор развития современной литературы. Наиболее последовательны в этом писатели-журналисты З. Прилепин и С. Шаргунов. В публицистике Шаргунова обрели прописку и были обкатаны образы и стилевые приёмы, дающие возможность автору творить ткань его сюжетов и создавать калейдоскоп лиц, ставших обобщением вневременного.
Для писателей, подобных Шаргунову, важна укоренённость в почве, необходимая тем больше, чем в более интеллектуальной среде воспитывался и формировался писатель. Цельность обретается благодаря верности факту и совестливости, которая для автора есть сопричастность божественному замыслу о человеке. В жанре биографии для ЖЗЛ «Катаев. Погоня за вечной весной» [10], удостоенной премии «Большая книга – 2017» и премии Правительства РФ в области культуры за 2018 год, Шаргунов не просто воскрешает для современного читателя образ почти забытого писателя «не второго ряда» (по мнению автора), но восстанавливает культурную традицию, часть опоры, на которой должна выстроиться сегодняшняя реальность. Аналогично несколькими годами раньше З. Прилепин стремился закрепить в сознании новых поколений образ Л. Леонова [7]. Для обоих авторов было важно, по словам С. Шаргунова, «честно давать факты, показывать сложность времени» [5]. Целостность творящего сознания важна для собирания всех актуальных событий сегодняшнего дня в общий образ российской действительности и человека.
Публикации С. Шаргунова на портале «Свободная пресса», главным редактором которого он является [6], – собирание образов журналиста, депутата, писателя в целостное авторское начало, основа которого в верности фактам через показ сложности времени. Форма, в которой воплощается сказанное, – краткие публикации-отчёты по депутатским запросам. Все материалы содержат реальную картину сегодняшних страданий «маленького человека» при общем отсутствии тотальной критики и нигилизма в адрес виновников. Отражение действительности в подобном аспекте достигается через показ проблем, требующих немедленного вмешательства власти, общества, неравнодушного человека. Освещение реальности сочетается с утверждением таких качеств современных «маленьких» людей, как способность к самоорганизации («Зоны затопления», «Учитель-атлант и небо захолустья»), неравнодушие («Сельская школа – ни крыши, ни пола», «Главный праздник неравнодушия», созидательная деятельность («История-отдушина»). Тематика публикаций совпадает с маршрутами С. Шаргунова-депутата. Вступиться за разоряемые библиотеки («Национальный иммунитет»), защитить многодетные семьи («Защита многодетной»), восстановить школы (Научные открытия или школьные закрытия?», «По ком звонит последний звонок?»), сохранить разрушаемые памятники культуры («Светлое и тёмное») – таков неполный перечень объектов действий журналиста. Всё, что попадает под пресловутую «оптимизацию», в центре интересов публициста и депутата. Выход слова в деятельность – это инициирование законов, связанных с защитой «падших» и оступившихся. Депутатская деятельность С. Шаргунова, обращение к президенту во время прямой линии повлияли на появление законов, облегчающих получение гражданства РФ, положение заключённых, смягчающих ответственность за лайки и репосты.
В телепублицистике Шаргунова (программа «12» на телеканале «Россия 24», например) продолжается этот разговор, подытоживается деятельность по защите прав граждан общества. В основе целостного образа автора – религиозное основание, евангельская заповедь о любви к ближнему (лейтмотив итогового выпуска программы «12» – «Защищая других – защищаешь себя») [4]. Так от общественно-политической и публицистической деятельности остаётся шаг до большой литературы. И наиболее удачны, на наш взгляд, те произведения Шаргунова, в которых через актуальную проблематику явно просвечивают типы людей, не отдельные словесные детали, заставляющие замолчать удивлённо, поддавшись обаянию слова, но те произведения, в которых основу составляет точно и метко найденный образ, созданный на грани между вымыслом и реальностью. Подлинность подобного вымышленного образа обретается через сакральное отношение к слову, протягивающему нити родства из глубины веков от прадеда к правнуку, от древнего человека к сегодняшнему. В первом случае имеем в виду «Ура!», «1993», «Птичий грипп», а во втором – «Книгу без фотографий», «Свои».
Верность факту, активность героя, минимальная дистанцированность повествователя – автора – героя, иерархия ценностей, в основании которой Бог и его ипостась «Слово», жалость и родственное чувство по отношению к маленькому человеку, который становится «своим» не только в силу кровного родства или близости позиций («Полоса», «Аусвайс» в «Своих»). Все эти признаки оформляются в усиленное очерковое начало, эссеистическую тональность, репортажную беглость и выпуклость зарисованных ситуаций.
Великая традиция в слове и образе не позволяет литературным произведениям остановиться на уровне бытописательства. В этом проявляются закономерности неореалистической стратегии, которые на рубеже XX–XXI веков дают основания оглянуться на манифесты и художественную практику писателей рубежа XIX–XX веков. В многочисленных исследованиях неореализма [3] обратим внимание на выделяемую во всех работах сквозную общую черту писателей-неореалистов – стремление выйти за границы натурализма. Как писал Н.А. Струве, «существуют разного рода реализмы по степени охвата реальности <…>. И только высший реализм обнимает бытие во всей его полноте, от повседневных деталей до надмирных законов жизни» [9, с. 267]. В публицистике С. Шаргунова есть твёрдые основания, которые позволяют определить источники этого выхода. Одна из статей названа «В защиту божественной трансляции» [4]. В научных и критических публикациях, интервью с писателями разных поколений и направлений есть повторяющаяся в разных ситуациях трансляция этого основания: интервью с Ю. Бондаревым «Жизнь – это обжигающая секунда» [6], интервью с А. Прохановым «Певец боевых колесниц» [Там же], интервью с Д. Граниным «Человек состоит из разных людей» [Там же]. И не литературный обобщенный «маленький человек», честно исполняющий любое дело созидания, встаёт со страниц публицистики.
Где заканчивается публицистика и начинается литература, обыденное переходит в сакральное, актуальное перерастает в вечное, факт становится символом, достоверность и вымысел равно апеллируют к читателю о доверии? На все эти вопросы нужны ответы, поскольку попытки исследователей выработать единые атрибутивные признаки метода не завершены, следствием этого остаются существенные отличия в оценке фактов и персоналий современного литературного процесса. Так, например, А. А. Серова [8] отказывает творчеству С. Шаргунова в принадлежности к неореализму. Мировоззрение автора зиждется на столпе веры, которая признаётся не столько как следование догматам и их знание, а как модель поведения, основанная на любви к человеку, на сострадании к нему, на готовности прощать. Верность факту, правда обобщения допускают вымысел, который позволяет зримо выстроить скрепы между событиями, героями и элементами композиции произведения (фамильная ложка, бабушкин гребень). Факты биографии служат выстраиванию художественной реальности, ведущей к пониманию общих закономерностей человеческого существования.
Публицистика в форме статей-отчётов по депутатским запросам содержит подлинные истории, они дают симптоматику сегодняшнего состояния общества и человека в нём. Из реальных событий вырастают художественные тексты («Полоса», «Аусвайс»), герои которых узнаваемы, но уже лишены «временности». При этом в текстах зафиксированы реалии времени (оптимизация в «Полосе», разрушение промышленности в «Русских на руинах», превращение служащего в придаток власти в «Аусвайсе»; унификация человека, ставшего частью информационного продукта «Человек из массовки»). Точность слова, свойственная публицистике, в художественных текстах соединяется с его многозначностью. Оно возникает в своей первозданной чистоте, рождая парадоксальные образы, созданные из обыденных деталей. В эссе «Страсть к чистому снегу» развёрнут образ неподкупного светлого человека с тихим словом В. Г. Распутина, ставшего одной из величин, питающих традицию. В. Г. Распу- тин, возникающий в романе Р. Сенчина «Зона затопления», – художественный образ, переданный через восприятие литературного персонажа, для которого писателя заместило повторяющееся слово «старик». В оценке и показе С. Шаргунова усталость надломленного смертью дочери отца спрятана в глубине. Здесь доминирует найденный журналистом светлый образ, перешедший в эссе и определивший характеристику героя, – «чистый снег», которого писателю не хватало в Сибири.
Как депутат С. Шаргунов курирует сибирские регионы, именно здесь есть основания того типа характера, что стал центром его литературных произведений (преодоление обстоятельств, собирание пространств, действие вопреки). Всё это способствовало созиданию и формированию культурной национальной основы. В «Независимой газете» в статье «Развивать – значит сохранять» [4] из личного переживания и детали, иконы, подаренной семье Анастасией Цветаевой, зримым и близким становится и музей, созданный её отцом. Автор не выступает против модернизации музейного пространства в XXI веке, но он защищает бережное отношение к объектам культуры, те же вдумчивость и серьёзность, что в сохранении иконы как носительницы духа народа.
Проявление авторской активной позиции в борьбе за сохранение школ, за возвращение в школьные программы сочинения, – для подобных культуросберегающих целей С. Шаргунов входит в «Общество русской словесности», в редакционный совет «Учительской газеты», проводит уроки литературы в школах России. Борьба за культуру и сохранение чтения – в основе нравственного кода человека. И его литературный герой вбирает в себя прежде всего подобные основные черты современника. Для художественных произведений Шаргунова типичен герой, оказавшийся в гуще политических событий. Так, 13-летний герой убегает к Белому дому в Москве 1993-го года, писатель едет в Цхинвал, на Донбасс, когда там происходят острые события. Герои Шаргунова («Ура!», «1993») своим активным действием противостоят распаду, безосновательному нигилизму. Минимальная дистанция между автором, повествователем и героем, особенно в «ранней мемуаристике», позволяет вглядеться не только в себя, свое прошлое и свое поколение, но собрать составляющие русского характера и культуры. Отсюда глубоко личное эссе «Мой батюшка», за каждым образом которого и отец, и сын, и внук, и страна не только в личном и историческом измерении, но и во вневременном, вечном. И возникает глубинный образ «Родины-внучки». В «Своих» и в «Книге без фотографий» самые значительные страницы посвящены эмоциональной связи, решённой через знаковую деталь, символический поступок (гребешок, кольцо, Драгоценное озеро).
Другой путь сближения публицистики и литературы – в архетипических библейских образах, после трансформации включённых в публицистический контекст («Избиение жрецов» [Там же], «Человек огня» [Там же], «Ироды» [6]). Восстановление традиции через преодоление поколенческого разрыва выстраивается благодаря сквозным образам, закреплённым культурой. Небо, в котором «звезда с звездою говорит»; «Русь уходящая» недописанная П. Кориным, становится «Русью не уходящей» [Там же] в статье в защиту уникальной Пулковской обсерватории. Так факт соединяется с образом, актуальное становится вечным – фундаментом культуры. Заложенные камнями продухи в хрущёвке, ставшей непригодной для жизни, вырастают в «историю-отдушину» [Там же], в бытовом просвечивает идеальный корень. От единичного к общему создаётся образ под влиянием литературной традиции.
Неореалистическая стратегия оказывается наиболее адекватной для сохранения реалий современности и передачи того, что за гранью реальности. Таким об- разом, публицистическое начало, актуализирующее события, становится влиятельным фактором в развитии современных художественных стратегий.
Tver State University
Список литературы Роль публицистичности в современном неореализме (на примере произведений С. Шаргунова)
- Бондаренко В. Новый реализм//Завтра. 2003. № 34 (509). 20 августа. С. 7.
- Казанцева И. А. Неореализм в современной русской прозе//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 1. С. 45-49.
- Казанцева И. А. Христианские и антихристианские мотивы в неореализме и постмодернизме//Судьбы русской духовной традиции в отечественной литературе и искусстве XX-XXI вв.: в 3 т. Т. 3 (ч. 2). СПб.: Петрополис, 2018. С. 196-221.
- Официальный сайт С. Шаргунова . URL: https://shargunov. com/(дата обращения: 21.12.2018).
- Парсуна: авторская программа В. Легойды на ТК «Спас» //Сергей Шаргунов в программе «Парсуна». URL: https://foma.ru/sergey-shargunov-v-programme-parsuna-polnyiy-tekst-video.html (дата обращения: 12.12.2018).
- Портал «Свободная пресса» . URL: https://svpressa.ru/authors/sergey-shargunov/(дата обращения: 5.01.2019).
- Прилепин З. Л. Леонов: «Игра его была огромна». М.: Мол. гвардия, 2010. 566 с.
- Серова А. А. Новый реализм как художественное течение в русской литературе XXI века: дис. … канд. филол. н.: 10.01.01/А. А. Серова; Нижегородский гос. ун-т. Н. Новгород, 2015. 290 с.
- Струве Н. А. Православие и культура. М.: Христианское изд-во, 1992. 337 c.
- Шаргунов С. В. Катаев. Погоня за вечной весной. М.: Мол. гвардия, 2016. 704 с.