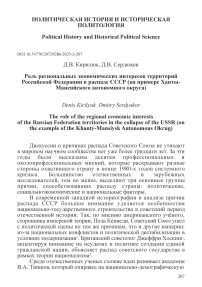Роль региональных экономических интересов территорий Российской Федерации в распаде СССР (на примере Ханты-Мансийского автономного округа)
Автор: Кирилюк Д.В., Сердюков Д.В.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Политическая история и историческая политология
Статья в выпуске: 3 (85), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе впервые вводимых в научный оборот документов региональных и муниципальных архивов Тюменской области, а также материалов местной периодической печати, осуществляется попытка проследить влияние нарастающего социально-экономического кризиса в сложноустроенном регионе на радикализацию общественно-политических настроений партийных и хозяйственных руководителей Ханты-Мансийского автономного округа в годы перестройки. Основное внимание уделяется многочисленным сбоям в работе централизованного планового хозяйства в крае, которые к началу 1990-х годов привели к расширению списка дефицитных товаров, неспособности местных властей удовлетворить запросы граждан в них, что проявлялось уже не только в скрытой, но и в открытой формах – росте критики власти в средствах массовой информации и стихийных митингах. Вследствие этого, даже ключевая отрасль экономики – нефтегазодобыча оказалась в кризисном состоянии, что вынудило руководителей данной отрасли также включиться в борьбу за права нефтяников и газовиков. Авторы приходят к выводу, что неспособность советского государства решить острые социально-экономические вопросы привели в 1990-1991 годах к ультимативным требованиям партийных и хозяйственных руководителей округа о более справедливом перераспределении государственных доходов между центром и регионами, а также к возникновению осознанных шагов отдельных лидеров по разрушению основ советской плановой экономики, в том числе и при помощи иностранных государств. То есть региональные экономические интересы территорий РСФСР на завершающем этапе перестройки выступили дополнительной причиной ослабления советской власти, способствовавшей распаду единого государства.
Советский Союз, перестройка, Ханты-Мансийский автономный округ, плановая экономика, социально-экономический кризис, дефицитные товары, общественное недовольство, региональные экономические интересы
Короткий адрес: https://sciup.org/149149218
IDR: 149149218 | DOI: 10.54770/20729286-2025-3-207
Текст научной статьи Роль региональных экономических интересов территорий Российской Федерации в распаде СССР (на примере Ханты-Мансийского автономного округа)
Д.В. Кирилюк, Д.В. Сердюков
Роль региональных экономических интересов территорий Российской Федерации в распаде СССР (на примере Ханты-Мансийского автономного округа)
Denis Kirilyuk, Dmitry Serdyukov
The role of the regional economic interests of the Russian Federation territories in the collapse of the USSR (on the example of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug)
Дискуссии о причинах распада Советского Союза не утихают в мировом научном сообществе вот уже более тридцати лет. За эти годы были высказаны десятки профессиональных и околопрофессиональных мнений, которые раскрывают разные стороны охватившего страну в конце 1980-х годов системного кризиса. Большинство отечественных и зарубежных исследователей, тем не менее, выделяют три основные группы причин, способствовавших распаду страны: политические, социальноэкономические и национальные факторы.
В современной западной историографии в анализе причин распада СССР большое внимание уделяется особенностям национально-государственного строительства в советский период отечественной истории. Так, по мнению американского учёного, сторонника имперской теории, Пола Кеннеди, Советский Союз ушел с политической сцены по тем же причинам, что и другие империи: из-за национальных конфликтов и политической дестабилизации в условиях модернизации1. Британский советолог Джеффри Хоскинг, акцентируя внимание на неудачах в политике создания единой гражданской нации, объясняет распад советского государства в рамках теории национализма2.
Среди отечественных ученых схожие идеи развивает академик В.А. Тишков, который опираясь на национально-демографическую теорию, выявляет одной из основных тенденций конца перестройки - разложение ядра государства на центробежные национальные элементы3. Известный питерский историк Б.Н. Миронов конкретизирует эти процессы с позиции особенностей советской национальной политики, указывая на прямую связь между политикой коре-низации, проводимой в 1920-1930-е гг., дерусификацией аппарата управления, формированием национальных элит в советских республиках в послевоенные годы и дальнейшей дезинтеграцией СССР4.
Тем не менее, гораздо более распространенной историографической традицией, как среди отечественных, так и среди зарубежных ученых, является повышенное внимание к политическим и социально-экономическим причинам распада Советского Союза, рассматриваемым, чаще всего, как комплексное, объективное явление. Так, уже в первой половине 1990-х гг., основываясь на теории модернизации, В.В. Согрин утверждал, что «вестернизация российского общества на рубеже 1980-1990 гг. представляется закономерным этапом российской модернизации»5.
Близко по смыслу, в рамках теории кризиса модернизации, интерпретируют события позднего СССР советские историки– диссиденты М.Я. Геллер и А.М. Некрич. Они утверждали, что, осуществив переход к индустриальному обществу, Союз не смог перейти к следующему, постиндустриальному этапу6. Исследователь Н.В. Елисеева, считает, что «перестройка была вызвана качественным перерождением политической культуры под воздействием на неё прогрессивной мировой мысли»7. Однако и она в конце концов приходит к мысли о том, что причинами «банкротства СССР» стали не личные качества Горбачева и не консерватизм партноменклатуры, а крайняя степень неэффективности советской экономической и политической системы8.
Схожие по смыслу выводы можно увидеть и в работах последних лет. Например, В.П. Кузьмин и Л.Г. Халанская утверждают, что в Коммунистической партии Советского Союза были нарушены принципы внутрипартийной жизни, отсутствовали механизмы самоочищения, способствовавшие засорению партии карьеристами, эгоцентристами, неспособными разрешать возникающие проблемы и противоречия. А попытка преодоления кризиса в партии была слишком запоздалой9.
Объективные экономические причины распада СССР озвучены также отечественными учеными И.В. Стародубской и В.А. Мау, которые, являясь убеждёнными последователями идей Егора Гайдара, в рамках социально-экономической теории объясняли распад СССР неэффективностью советской экономической системы, основанной не на рыночных механизмах, а на планировании и принудитель- ном труде10. Представители комбинированной теории – российские историки Р.Г. Пихоя и С.В. Чешко видели причины краха СССР в сочетании различных факторов, в частности, экономики, этнонационализма и политического экстремизма11.
Наряду с этим, за последние несколько десятилетий в российской и мировой исторической науке появилась целая группа ученых-историков, которые в качестве ключевых причин распада Советского Союза стали выделять субъективные, личностные факторы. К примеру, среди западных исследователей похожа по набору аргументов работа Арчи Брауна, написанная в рамках теории личности и сводящая всё к политическому и личностному противостоянию Горбачева и Ельцина12. Аналогичный подход развивает российский политолог А.А. Чемшит. Он подчеркивает: «К власти пришел антисталинист, инициировавший перестройку, ставшую, в свою очередь, инструментом демонтажа советской государственности»13. Американский ученый С. Коэн поддерживает данный дискурс, отмечая, что «главная причина распада Советского Союза – стремление Ельцина к неограниченной власти»14.
Ряд историков и обществоведов, таких как Т.П. Коржихина, Ю.Ю. Фигатнер, М.Ю. Малютин, О.В. Крыштановская, В.Б. Пастухов, Д.Е. Фурман и А.В. Шубин, анализируя в разный период события перестройки, отстаивали позиции теории революции элит15. Так, историк А.В. Шубин утверждает: «распад советского государства стал результатом межэлитной борьбы за власть и ресурсы, а системный кризис максимально расширил свободу выбора для республиканской элиты, которая решила гарантировать себе власть путём дистанцирования от центра»16.
Сторонники теории революции элит солидарны в том, что «партийная и советская номенклатура, упрочившая свое положение в 1960-1980-е гг. и являвшаяся фактическим собственником того, что юридически принадлежало общенародному государству, захотела юридически оформить свое положение. Поэтому Россия на рубеже 1980-1990-х гг. возвращается в лоно капитализма, а «новые русские» в своем подавляющем большинстве те же люди, которые занимали высокие партийные, советские и хозяйственные посты в доперестроечное и перестроечное время»17.
Активно набирает популярность также и теория заговора, которая видит ключевым сюжетом именно сознательное разрушение советского государства18. Поддерживая данную логическую линию, отечественный историк А.В. Островский писал: «даже М.С. Горбачёв и его ближайшие сподвижники признают, что к 1985 г. экономического кризиса в стране ещё не было»19, а философ А.А. Зиновьев придерживается точки зрения, что «горбачевская перестройка и есть подлинная реальность кризиса»20. Это же мнение прослеживается и в работах современного американского историка Рональда Суни, отмечавшего, что «в 1980-х гг. в СССР не было кризиса, пока его не создала сама верхушка Коммунистической партии»21.
Некоторые отечественные историки, развивая подобную точку зрения, стали поднимать вопрос о преднамеренном разрушении СССР со стороны высшего советского руководства, и даже о предательстве, его работе на западные спецслужбы. Так, историк И.Я. Фроянов считал, что «действия Горбачева следует расценивать как предательство по отношению к России. Но это предательство было коллективным, у Горбачева были не только помощники, но и про-должатели»22. Академик В.Я. Гросул в своих публичных лекциях напрямую заявил о работе на ЦРУ ближайшего сподвижника М.С. Горбачева – А.Н. Яковлева, а также о наличии подозрительных фактов на данный счет в биографии и у самого генерального секретаря партии23.
Тем не менее, большинство современных исследователей видят причины распада Советского Союза в рамках более широких, глобальных процессов. Например, отечественный социолог Г.М. Дерлугьян, сфокусировав внимание на миросистемном (И. Валлер-стайн) и геополитическом подходах (Р. Коллинз), объяснил «провал» Советского Союза в схожем ключе: «И. Валлерстайн предсказал геополитический манёвр советского руководства и возвращение к капитализму в рамках общеевропейского континентального альянса. Но вместо заключения великого пакта о более почётном коллективном вхождении в мировую капиталистическую иерархию на правах сверхдержавы номенклатура распотрошила и разбазарила советские активы»24.
В соответствии с теорией демократического транзита С.А. Величко также приходит выводам об объективности происходивших в стране изменений: «В высших кругах партийной и советской элиты происходит осознание необходимости перемен. Советская элита выдвинула из своей среды М. С. Горбачева, который и инициировал перестройку, вошедшую в историю как составная часть демократического транзита»25. Не случайно, «в коммунистические идеалы в августе 1991 г. уже мало кто верил…», «а другой идеологической концепции, сплачивающей народы в единое государство, выработано не было»26.
А.Н. Медушевский опираясь на когнитивную теорию, обобщает подобные умозаключения и говорит, что «Советский Союз распался в результате осознания противоестественности и неэффективности тех когнитивно-конструктивистских моделей, которые изначально были положены в его основу. Они не выдержали испытания временем, подобно грубо и наспех сколоченному дому, механическое поддержание целостности которого со временем теряет всякий смысл»27.
В нашей статье речь пойдет о такой специфической проблеме кризиса советской государственности как региональные экономические интересы территорий, входивших в состав Российской Советской Федеративной Социалистической республики. Подобная оптика позволяет в значительной степени абстрагироваться от вопросов сведения старых межнациональных счетов, характерных для взаимоотношений отдельных союзных республик с Центром, проблемы реализации их права выхода из Союза ССР и т.д. Важно также понимать, что Российская Федерация занимала особое положение внутри СССР. Будучи крупнейшей союзной республикой, она, тем не менее, не обладала всеми атрибутами государственности, характерными для других республик Союза. Одним из наиболее известных аспектов данной проблемы было, как известно, отсутствие у России собственной компартии, что существенно снижало возможности продвижения интересов страны в составе СССР.
В связи с этим, особый интерес представляют также научные публикации, сфокусированные на анализе кризисных процессов в региональном разрезе. Практически все исследователи на местном материале приходят к выводам о том, что на начальном этапе горбачевских реформ партийные структуры находились в удовлетворительном состоянии, но в скором времени начался кризис в КПСС, который стал следствием тяжелого социально-экономического положения, внутрипартийных противоречий и ошибок политической реформы28. На основании анализа региональной историографии по проблеме можно сделать промежуточный вывод о том, что большинство ученых рассматривают кризисные явления в политической и социально-экономической сферах российских регионов в 19851991 гг. в прямой зависимости от аналогичных процессов в столице. Однако, на наш взгляд, важно проследить и обратный процесс – влияние региональных событий на общесоюзный контекст.
***
Отправной точкой для нашего исследования является тот факт, что РСФСР была сложноустроенной республикой, состоявшей из множества административно-территориальных единиц, включавших автономные республики, края, области, национальные (автономные) округа, национальные районы и т.д. В результате, была создана особая структура Российской Федерации, которая, по словам С.В. Кульчицкого, как и в целом в СССР, представляла собой свое- образную иерархию этносов29. Весьма показательно то, что согласно Конституции РСФСР 1978 г., сложноустроенный характер имели такие образования как области и края, в состав которых входили 10 автономных округов (Агинский Бурятский, Коми-Пермяцкий, Корякский, Ненецкий, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Усть-Ордынский Бурятский, Ханты-Мансийский, Чукотский, Эвенкийский, Ямало-Ненецкий), а также Еврейская автономная область, являвшаяся частью Хабаровского края30.
Одним из примеров подобного, сложноустроенного региона была Тюменская область, в состав которой с 1944 г. входили Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий национальные, а затем автономные округа. Вследствие этого, многие общественно-политические, социально-экономические и культурные вопросы в таких макрорегионах требовали постоянного согласования интересов на уровнях горкомов, райкомов КПСС – горисполкомов и райисполкомов Советов, окружкома КПСС и окрисполкома окружного Совета, после чего проекты их решения поступали в Тюменский обком партии и облисполком и лишь затем доходили до республиканских органов власти. То есть фактически работала четырехступенчатая система принятия итогового решения (для остальных городов и районов страны - трехступенчатая), что само по себе усложняло систему управления данными территориями.
Уже на старте перестройки впервые заметно проявились признаки потери координации в работе органов власти Тюменской области. Часто областной исполнительный комитет и его структурные подразделения, нарушая закон об автономных округах и минуя окружной исполнительный комитет, отправляли решения напрямую городским и районным исполкомам Югры31. Так, в 1985 г. Тюменский облисполком директивно повысил годовые и квартальные планы по реализации продукции промкомбинатам и хлебозаводам, функционировавшим в районах и городах округа. В другом случае, вновь минуя Ханты-Мансийский окрисполком, областное управление бытового обслуживания реорганизовало окружную сеть службы быта, что как выяснилось позже, только внесло разлад в её деятельность и привело к срыву выполнения планов32.
Гласность и демократизация также способствовали появлению открытых конфликтов между местными Советами народных депутатов, их исполнительными комитетами, и партийными органами, которые по инерции ещё пытались сохранить контроль за органами власти. Так, председатель Сургутского районного исполнительного комитета Ю.В. Неелов в 1988 г. отмечал, что окружной комитет КПСС сначала призывал в инициативном порядке формировать планы, но на деле колоссальная работа по сбору предложений со всех сельских и поселковых Советов никакой практической реализации не получила33.
Более того, Юрий Васильевич констатировал, что за период 1986–1988 гг. Советы народных депутатов ни разу не получили какой-либо практической помощи от руководства окружкома партии, лишь критику и давление34. Такого же мнения придерживался и председатель Сургутского городского исполнительного комитета О.Д. Марчук. Он жаловался, что бюро окружкома и горкома КПСС регулярно и грубо вмешивались в работу исполкома, важнейшие вопросы социально-экономического развития коллегиально не обсуждались, но при этом партийные функционеры в качестве нормы могли отдавать прямые поручения структурным подразделениям ис-полкома35.
Сложная система управления в СССР создавала трудности и иного порядка, когда любые ресурсы, товары или услуги проходили непростой механизм распределения в обратном направлении – от республиканского Центра к конкретному городу, либо району, что порождало излишний бюрократизм, волокиту и потерю части поставок по пути следования. В условиях государственной, плановой экономики и хронического дефицита в советском обществе такая цепочка согласований и распределения рождала перманентное недовольство местных руководителей и простых граждан, обвинения в нарушении принципов равенства, справедливости и т.д.
Неудивительно, что по мере погружения в перестроечные процессы в Ханты-Мансийском автономном округе всё чаще публично стала обсуждаться проблема разграничения полномочий между областными и окружными органами власти. Если на заре перестройки в окружной прессе звучали лишь робкие мнения о несправедливости в этих отношениях, то, начиная с 1990 г., после формирования новых Советов данная тема приобрела уже политическое звучание. Ряд народных депутатов еще во время предвыборной агитации обещали лоббировать закон о Ханты-Мансийском автономном округе, в котором будет обеспечена широкая национально-культурная и социально-экономическая автономия36. Развивая данные инициативы, после окончания выборов свежеизбранные народные депутаты с трибуны окружного Совета стали требовать перевести автономный округ на принципы полного самоуправления37.
Наиболее острой стороной нараставших трудностей в годы перестройки были, безусловно, вопросы экономики и социального развития, когда стали усугубляться проблемы выполнения плановых заданий. Двенадцатый пятилетний план (1986-1990 гг.) не был выполнен в стране по целому ряду показателей. Темпы роста ВНП в Советском Союзе снизились в годы этой пятилетки до 2,4 % в год (против 3,7 % в годы XI-й и 4,8 % в годы X-й пятилетки), а в 1990 г. стали отрицательными38. Неудивительно, что в июле 1990 г. на XXVIII съезде КПСС в своем докладе Председатель Совета Министров СССР Н.И. Рыжков констатировал: «Продолжает оставаться крайне острой для страны продовольственная проблема. Если в 1984-1986 гг. среднегодовые темпы прироста производства сельскохозяйственной продукции были 2,6%, то в последние три года они снизились до 1,5%. Неудовлетворенный спрос населения на продукты питания нарастает. По оценкам специалистов, он достигает почти 50 млрд рублей, что равно трети производимых в стране продуктов питания»39.
Не обошла эта проблема и нефтегазовый Север. Ещё в марте 1988 г. второй секретарь Ханты-Мансийского окружного комитета партии А.В. Филипенко с трибуны регионального пленума негативно охарактеризовал итоги работы по обеспечению граждан продовольственными товарами. Так, по его словам, в округе на одного жителя в год производилось 41 кг. молока, 10 кг. мяса, 45 кг. картофеля и 17 кг. овощей. В среднем получалось, что один житель из произведенных в регионе продуктов мог раз в неделю съесть пару котлет и выпить стакан молока40.
В ключевых экономических сферах Тюменского Севера, например, в нефтедобывающей и строительной, также стали нарастать негативные тенденции. Если в 1985 г. на месторождениях Среднего Приобья добывалось 336,8 млн тонн нефти, то в 1990 г. - всего лишь 301,4 млн тонн. За период с 1986 по 1989 гг. в связи с нерентабельностью было списано более 2,4 млрд тонн запасов нефти41. В округе неуклонно сокращалось и общее количество промышленных предприятий. Так, если на старте перестройки в Ханты-Мансийском автономном округе насчитывалось 1520 промпредприятий, то в 1991 г. их осталось только 108642.
Серьезно просела задача инфраструктурного развития территории нефтегазового освоения, как в промышленном, так и в гражданском секторах. Практически повсеместно организации Госплана СССР и ключевых союзных министерств, ответственные за обеспечение строительными материалами нефтегазовых районов Тюменской области, сократили объемы поставок оборудования и деревянных конструкций для монтажа домов и производственных объектов. К примеру, только Госснаб и Министерство лесной промышленности в 1989 г. вместо необходимых 1190 тыс. кв. м. сборных деревянных конструкций предусмотрели поставку всего лишь 341,8 тыс.43 Отразилось это и на темпах строительства жилья для северян.
Вполне естественным результатом в подобной ситуации было то, что постановление ЦК КПСС и Совета Министров от 20 августа
1985 г. № 797 «О комплексном развитии нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири в 1986-1990 годах» в полной мере выполнить не удалось44. При подведении итогов работы пленума Тюменского обкома КПСС в 1990 г., председатель межведомственной комиссии Западно-Сибирского нефтегазового комплекса при Госплане СССР Е.Н. Алтунин признался: «Не будет никакой квартиры в 2000 г. каждому, не получится! Проанализируйте. Два года снижаем объемы строительства жилья, хотя продолжаем кругом заявлять, что мы хорошо работаем. В этом году вышли на уровень 1985 г. Вот куда мы с вами пришли»45.
Между тем, в 1990-1991 гг. достиг своего апогея и товарный голод. Особенно болезненно это ощущалось на территории Ханты-Мансийского автономного округа, ставшей во второй пол. 1960-х – 1980-е гг. местом большого притока населения, прибывавшего на строительство Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Так, на Сургутском пивоваренном заводе возник дефицит стеклотары, что грозило сорвать планы по производству алкогольных и безалкогольных напитков46. Время от времени предприятия города сотрясали скандалы, связанные с распределением дефицитных товаров, например, кухонной мебели47.
Власти Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области в целом были вынуждены делать все более резкие заявления по данному поводу. Уже 24 января 1990 г. Пленум Тюменского обкома КПСС опубликовал открытое обращение в Политбюро ЦК КПСС и Президиум Верховного Совета СССР «О социально-экономической обстановке в области», в котором было отмечено «все возрастающее несоответствие между вкладом области в экономику страны и обеспечением продовольствием, товарами первой необходимости, решением социальных проблем. В обращении с горечью говорилось также о том, что постоянный срыв фондов поставок продовольственных и промышленных товаров усугубляет социальную напряженность в регионе48.
Сложившая система экономических взаимоотношений, по мнению работников нефтегазовой промышленности региона, была несправедливой, она не способствовала реальной самостоятельности предприятий отрасли. С одной стороны, нефтяникам приходилось приобретать необходимое оборудование и технику по рыночным ценам, с другой, - для них по-прежнему действовали госзаказ и фиксированные цены на добытые углеводороды49.
В отдельных случаях недовольство граждан сложившимся положением дел приводило к стихийным митингам и акциям протеста. Например, 21 января и 4 февраля 1990 г. в поселке Лянторский Сургутского района произошли многолюдные антиправительственные митинги с требованием навести порядок в торговле и в сфере обслуживания - «навести социальную справедливость». Критике были подвергнуты также многие стороны работы местных предприятий транспорта связи, организации строительства жилья, медицинского обслуживания и т.д.50.
Ситуацию лишь усугубляло отсутствие в регионе единой торговой сети. В одном только г. Сургуте в конце 1980-х гг. фактически самостоятельно существовали 11 ведомственных торгующих сетей, ориентированных на удовлетворение потребностей работников конкретных отраслей промышленности и транспорта. В подобной обстановке уже в апреле 1990 г. местные горраийсполкомы были вынуждены все чаще вмешиваться в систему распределения дефицитных товаров среди жителей г. Сургута и Сургутского района, устанавливая квоты на их продажу различным категориям населе-ния51. Однако недовольство и озлобление граждан Югры продолжало нарастать.
Реализация товаров и продуктов питания через систему ОР-Сов и УРСов ещё рельефнее выявила дисбаланс товарооборота с товарными ресурсами. Регулярный доступ к дефицитным товарам получили в основном работники крупных предприятий. Остальным же категориям граждан в условиях обострения дефицита оставалось надеяться на изредка проводимые ярмарки или ловить удачу в крупных магазинах. При этом многократные проверки госторгинспекции вскрывали факты отсутствия в магазинах жизненно необходимых товаров и продуктов, которые фактически хранились на базах и складах. Порой разница могла достигать до 30-ти наименований продукции52.
В результате независимого расследования рабочей группы Сургутского городского координационного комитета по продовольствию в 1990 г. было составлено и передано в Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности 25 протоколов по факту умышленного сокрытия продуктов питания и промышленных товаров. Так, в любимом сургутянами магазине «Океан» в ходе проверки комиссия городского Совета народных депутатов на складе обнаружила в большом количестве запасы рыбы ценных пород, дефицитные спиртные напитки и просто желанные в повседневном рационе консервы. В торговом же зале ничего из этого изобилия не наблюдалось. Правда, как ни старались депутаты и сотрудники ОБХСС навести порядок и наказать виновных, дело вскоре было закрыто53.
Интересно, что и сами контролирующие органы в условиях хронического «товарного голода» были не против закрыть глаза на очевидные нарушения, допускавшиеся торгующими организациями. Например, в 1988 г. сотрудники городского ОБХСС получили от предприятий г. Сургута товаров и продуктов на сумму более 15 тыс. руб. Даже руководитель городского Управления внутренних дел В.И. Хисматулин в переписке с директорами торговых предприятий нередко запрашивал отсутствовавшие в свободной продаже товары. Чаще всего в обосновании подобного запроса указывалась одна и та же причина – для нужд сотрудников54.
Нельзя сказать, что местные власти не пытались найти способы улучшить механизмы распределения дефицитных товаров. Например, в 1990 г. Сургутский исполком своим решением расширил перечень организаций, имеющих право торговли в открытую розницу, минуя производственные УРСы и ОРСы. Также исполком распространял часть талонов на дефицитные товары через ЖЭУ55. Однако городской Совет народных депутатов, увидев риски обеспечения объективного контроля и коррупционный потенциал подобной схемы, отменил это решение56.
В других населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа, например, в городе Нижневартовске, в это же время приняли решение организовать распределение товаров и продуктов уже традиционным для Советского Союза способом - по талонам и через небольшую сеть магазинов, где распространяли все товары первой необходимости, начиная от продуктов питания, заканчивая одеждой, вплоть до нижнего белья и туалетного мыла57. Такой же жёсткий порядок был определен для юбилейных дат и ритуальных обрядов. При этом заявки принимались строго за 3–5 дней до проведения мероприятия, а в список счастливчиков по случаю юбилейных дат могли попасть граждане, начиная с 50-ти лет и старше, при норме отпуска: два наименования разных групп товаров в одни руки58.
В стремлении преодолеть нарастающие трудности снабжения населения товарами местные общественные деятели и руководители стали подвергать критике даже ключевые положения советской социально-экономической модели. Так, один из кандидатов в народные депутаты, представитель горкома ВЛКСМ Виталий Воронин публично заявил о необходимости ликвидировать общественную собственность на средства производства, из-за которой трудящиеся оказались отчуждены от результатов своего труда и сформировалась уравниловка59.
В свою очередь, открытое недовольство сложившейся ситуацией стали высказывать и первые руководители нефтегазовой отрасли Ханты-Мансийского автономного округа, которое, учитывая значимость нефтедолларов для советской экономики, не могло не остаться не замеченным и на самом высоком уровне. Так, 2 и 14 марта 1990 г. кандидат в народные депутаты, генеральный директор объединения «Сургутнефтегаз» В.Л. Богданов заявил, что его целью является законодательное закрепление права нефтяников распоряжаться частью продукции, которую они производят. Он предлагал оставлять для нужд области 10-15 процентов добываемого сырья60. Данная идея быстро стала набирать популярность и ее включили в свою предвыборную программу многие потенциальные народные избранники.
Одновременно с этим, давление на центральные власти стали оказывать и общественные организации нефтяников. Так, 10 марта 1990 г. Тюменский обком профсоюза рабочих Миннефтепрома обратился с заявлением к Председателю Совета Министров СССР Н.И. Рыжкову, которое имело характер ультиматума. В нем содержалось требование обеспечить нефтяников на 100 процентов плановым фондом продовольственных и промышленных товаров, строительными материалами, продукцией машиностроения, либо оставлять в распоряжении нефтегазодобывающих предприятий 10-15% добываемой нефти и газа для ее реализации без отчислений в госбюджет. В случае неполучения ответа коллективы были готовы пойти на остановку работы нефтегазодобывающих предприятий61.
Судя по оперативной реакции органов центральной власти, руководство партии и страны было всерьез обеспокоено подобным вариантом развития событий. Уже на следующий день, 11 марта 1990 г. Совет Министров СССР издал распоряжение, в соответствии с которым для работников, осуществляющих добычу нефти и газа, геологоразведочные работы и обустройство нефтепромысловых объектов Тюменской области была разрешена закупка мясных и молочных продуктов за границей. Кроме того, были запланированы мероприятия по ускорению строительства в регионе жилья, обеспечению нефтегазовой отрасли продукцией машиностроения и сохранению северных надбавок к зарплате при увольнении62.
22 марта 1990 г. делегаты пленума Ханты-Мансийского окружного комитета партии в атмосфере полного отчаяния в открытом обращении к Президенту СССР М.С. Горбачеву в очередной раз констатировали, что неоднократные просьбы к Верховному Совету, Правительствам СССР и РСФСР о решении неотложных социальноэкономических проблем так и не были никем услышаны63. В округе окончательно сформировалось осознание того, что высшее советское руководство воспринимало регион исключительно как ресурс для пополнения нефтедолларами государственной казны.
Следствием потери доверия к высшей власти явилась негативная реакция населения на новые инициативы советской власти по совершенствованию механизмов территориального хозрасчета. Жители Югры восприняли это как хитрый ход государства по введению дополнительных налогов на трудовые коллективы64.
Ряд предприятий Ханты-Мансийского автономного округа, в числе которых были такие крупнейшие объединения как «Нижневартовскнефтегаз», «Юганскнефтегаз», «Варьеганнефтегаз», «Красноленинскнефтегаз» и другие, инициировали коллективные трудовые споры с Правительством СССР. 22 марта 1990 г. окружной комитет партии поддержал требования сотрудников нефтегазовой отрасли разрешить им заключать прямые договоры с другими регионами страны и самостоятельно распоряжаться частью произведенной продукции65.
28 марта 1990 г. Председатель Совета Министров СССР Н.И. Рыжков принял у себя делегацию руководителей нефтегазодобывающих производственных объединений и от имени правительства обещал им решить озвученные проблемы, взамен призвав работников отрасли выполнить плановые показатели добычи66. То есть власти страны пошли на серию реальных действий и обещаний новых уступок с целью обеспечения стабильности в регионе и пополнения государственного бюджета.
Тем не менее, речь шла о государственной помощи в решении проблем конкретной отрасли производства, в бесперебойной работе которой было заинтересовано высшее руководство страны. В условиях ведомственного характера освоения Тюменского Севера, это не гарантировало другим жителям Югры аналогичного внимания со стороны власти. Поэтому, не дожидаясь помощи от Москвы, уже в начале 1990 г. руководители городских и муниципальных органов управления округа также стали выдвигать собственные инициативы по выходу из сложившейся ситуации, свидетельствовавшие о постепенной утрате государственного контроля на местах. Так, в феврале 1990 г. в г. Сургуте состоялась любопытная встреча заместителя председателя Сургутского горисполкома О.А. Саруханова и начальника отдела внешнеэкономических связей производственного объединения «Сургутнефтегаз» В.В. Копысевича с корреспондентом английской газеты «Файнэншл Таймс» Стивеном Батлером, где они призывали иностранных инвесторов открывать в регионе совместные предприятия, построить в Сургуте отель и международный аэропорт, который бы мог обеспечить дозаправкой грузовые перелеты по маршруту Токио-Лондон и т.д.
По данным английской газеты, в это же самое время в Министерстве геологии СССР уже шли активные дискуссии о возможности допуска иностранных компаний в проекты по совместной разработке нефтяных месторождений67. Это, с одной стороны, открывало большие перспективы для развития Ханты-Мансийского автономного округа, а, с другой, - еще больше снижало государственный контроль над экономикой в регионах.
В конце 1990 – первой половине 1991 гг. общественно-политический и социально-экономический кризис в Советском Союзе продолжал усугубляться. Неуклонно ухудшалась и ситуация в экономике Югры, где финансовые проблемы стали испытывать не только отдельные предприятия или отрасли, но и в целом весь регион. Фонды экономического стимулирования на предприятиях Ханты-Мансийского автономного округа были исчерпаны, годовой государственный заказ не был обеспечен необходимыми ресурсами. Дефицит окружной казны сравнялся с его доходной частью. Так, в 1990 г. доходы окружного бюджета составляли 3 млрд рублей, тогда как расходы достигли уже 6 млрд. И не было ясности из каких источников власти могли восполнить этот дефицит68.
1 февраля 1991 г. депутаты уже областного Совета в открытом обращении к М.С. Горбачеву назвали социально-экономическую ситуацию критической. Для того чтобы предотвратить крах экономики региона и страны они потребовали финансово поддержать нефтегазовый комплекс, увеличив в 1991 г. минимальные цены на нефть до 120 руб. за тонну, на газ – до 68 руб. за 1000 кубических метров с последующим пересчетом на мировые цены. Наряду с этим, вновь прозвучало и их главное требование - предоставить право предприятиям самостоятельно распоряжаться частью добытых ресурсов69.
Именно в подобной обстановке стала возможной ситуация, произошедшая весной 1991 г. 19 марта в газете «Сургутская трибуна» появилась заметка «Председатель летит в Вашингтон», в которой сообщалось о том, что председатель Сургутского городского совета народных депутатов А.Е. Лошаков вылетел через Москву в американскую столицу с целью участия в международной конференции на тему: «Энергетические ресурсы СССР и стран Центральной Европы». Ее организаторами «выступили представители крупных деловых кругов США и компания «Братья Соломон». В публикации также сообщалось о том, что А.Е. Лошаков должен был представить на конференции весь Ханты-Мансийский автономный округ. Собкор газеты добавил и еще одну удивительную подробность поездки: «билет на самолет Москва-Вашингтон для А.Е. Лошакова был приобретен в США и оттуда выслан в СССР», поскольку «у нас просто не нашлось валюты»70.
Откровения ведущей городской газеты г. Сургута позволяют говорить о том, что глава города отправился в Соединенные Штаты Америки на очень невыгодных условиях, будучи полностью зависимым с финансовой точки зрения от принимающей его стороны. Не менее удивительным было и продолжение данной истории на страницах местной периодической печати. 4 апреля 1991 г. газета «Сургутская трибуна» опубликовала отчет о результатах поездки А.Е.
Лошакова в США в статье под названием «В кейсе у председателя». Руководитель г. Сургута сообщил редакции издания о том, что на международной конференции, куда он был приглашен, он убеждал американскую бизнес-элиту идти на конкретные проекты сотрудничества с местными властями… «обходя Москву-Центр»! По словам А.Е. Лошакова, «эти же направления поддерживал и выступавший перед нами З. Бжезинский»71.
Недопустимая в большом государстве самостоятельность провинциального политика в данном случае дополнялась и еще одной инициативой, которую он обсуждал на конференции с американскими политиками и бизнесменами: «Мы решаем в округе вопрос о создании национальной компании, которая должна альтернативно централизованным ведомствам заниматься добычей нефти с привлечением сюда иностранного капитала»72. То есть региональные экономические интересы Ханты-Мансийского автономного округа устами А.Е. Лошакова способствовали развитию идей создания с участием иностранного бизнеса российских нефтегазовых предприятий, независимых от советского руководства. Вопрос о форме их собственности в статье упомянут не был, однако, имеющиеся сведения позволяют говорить о том, что фактически речь велась об окончательном изъятии из ведения СССР вопросов руководства одной из ведущих отраслей экономики – нефтегазодобычи. По словам сургутского градоначальника, эта идея была поддержана американской стороной, у которой «к представителям «низов» больше доверия, чем к официальным политикам центра…»73.
В условиях распадающегося советского государства, неспособного решить острейшие социально-экономические проблемы страны, в 1991 г., подобный экономический сепаратизм, по всей видимости, казался некоторым руководителям в регионах оправданным и даже законным. По сути он означал окончательный подряд «снизу» основ существования Советского Союза, разрушение единого народно-хозяйственного комплекса страны, что в прежние, доперестроечные годы жестко пресекалось руководством партии, органами государственной безопасности и внутренних дел. Однако, как сказал А.Е. Лошаков, ему пришлось убеждать американцев в том, что «на месте партия не влияет на наши решения, что КГБ над нами не висит – не верят…»74.
Поэтому никакого скандала в городе Сургуте в результате выхода публикации не произошло. Весьма показательна реакция самой газеты «Сургутская трибуна», которая в послесловии к этой статье посоветовала сургутянам не расстраиваться тому, что председатель Сургутского горсовета не привез в округ контракты на поставку мяса и деликатесов из Америки, которые от него ждали. Важно было, по мнению журналистов то, что теперь не Москва, а местные политики решали, что нужно городу75. Поразительные рассуждения были опубликованы всего через 2 недели после референдума о сохранении СССР, на котором 62% жителей Ханты-Мансийского автономного округа высказались за дальнейшее существование Союза76.
***
Таким образом, конкретные экономические интересы регионов РСФСР вполне можно рассматривать как еще одну из причин распада советского государства на завершающем этапе его существования. Эти интересы были связаны с двумя основными идеями: 1) преодоление нарастающего кризиса в советской провинции, вызванного ошибками и сбоями централизованного планового хозяйства; 2) стремление отдельных региональных руководителей получить большую свободу действий от союзного Центра. Оба вопроса были тесно взаимосвязаны и определялись, по мнению многих граждан, неспособностью советской власти решить насущные проблемы населения.
Данные тенденции были особенно актуальными для Ханты-Мансийского автономного округа, находившегося в составе крупного, сложноустроенного региона – Тюменской области. Запустив процессы демократизации системы управления, высшее руководство Советского Союза в конце перестройки само оказалось в немалой зависимости от все возрастающих требований регионов, в том числе и территорий РСФСР. В 1991 г. на фоне потери Москвой контроля над управлением страной, некоторые местные руководители советских и партийных органов власти стали, в том числе и при помощи иностранных государств, предпринимать осознанные шаги по разрушению основ социалистической экономики и установлению контроля над принадлежавшими государству средствами производства.