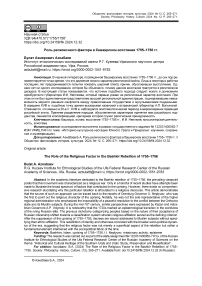Роль религиозного фактора в башкирском восстании 1755-1756 гг
Автор: Азнабаев Булат Ахмерович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
В научной литературе, посвященной башкирскому восстанию 1755-1756 гг., до сих пор репрезентируется точка зрения, что это движение носило характер религиозной войны. Лишь в некоторых работах последних лет предпринимаются попытки показать широкий спектр причин, обусловивших выступление. Однако нет ни одного исследования, которое бы объяснило, почему данное восстание трактуется в религиозном дискурсе. В настоящей статье показывается, что источник подобного подхода следует искать в донесениях оренбургского губернатора И.И. Неплюева, который первым указал на религиозный характер восстания. При этом он не был единственным представителем высшей региональной администрации, подчеркивавшим невозможность мирного решения конфликта между православным государством и мусульманскими подданными. В середине XVIII в. подобную точку зрения высказывал казанский и астраханский губернатор А.П. Волынский. Отмечается, что именно в 20-е гг. XVIII в. наблюдался эпистемологический переход в мировоззрении правящей российской элиты. Прежнее разделение народов, обусловленное характером принятия ими российского подданства, сменяется классификацией, критерием которой служит религиозная принадлежность.
Башкиры, ислам, восстание 1755-1756 гг, и.и. неплюев, миссионерская деятельность, эпистема
Короткий адрес: https://sciup.org/149147084
IDR: 149147084 | УДК: 94(470.57)“1755/1756” | DOI: 10.24158/fik.2024.12.32
Текст научной статьи Роль религиозного фактора в башкирском восстании 1755-1756 гг
,
R.G. Kuzeev Institute for Ethnological Studies of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia, ,
Актуальность темы обусловлена тем, что в историографии давно сложилось мнение о том, что башкирское восстание 1755–1756 гг. следует рассматривать как религиозный конфликт. До-сего времени это выступление называют восстанием Батырши – авторитетного мусульманского деятеля, чьи воззвания якобы стали идеологическим обоснованием вооруженного выступления башкир. Вместе с тем источники не подтверждают это расхожее представление историков. Они явно свидетельствуют о том, что данное восстание по своим лозунгам и целям ничем не отличалось от всех прежних башкирских волнений. В данной статье мы попытались найти источник, который почти на два столетия предопределил неадекватную оценку восстания 1755–1756 гг. Кроме того, мы постарались понять, чем обусловлено было стремление представить движение как священную войну мусульман.
Ни одно из многочисленных выступлений башкир не сопровождалось таким беспрецедентным количеством дезинформации, как восстание 1755–1756 гг. Приведем только некоторые наиболее очевидные примеры, попавшие в официальные документы. В рапорте от 26 августа 1755 г. оренбургский губернатор И.И. Неплюев откровенно сообщил в сенат, что он прибег к прямой лжи с целью посеять раздор между башкирами и казахами. Губернатор внушал элите младшего жуза, что башкиры «в Киргис-Кайсаки не для того одного бегут, чтоб тамо при нынешних чинимых над ними поисках спастись, но яко бы, умышляя еще о бунте своем, усоветовали, ежель сил их противу русских стоять не будет, всем в Киргис-Кайсаки убегать и киргисцам до тех пор покорно и ласково себя показывать, пока они там не умножатся; а когда будут людны, то искать удобного случая, дабы им всеми своими силами соединиться и всякия пакости делать: во-первых ему, хану, и ево фамилии, яко первенствующим, а потом и протчим владельцам и старшинам, да и всему народу от времяни до времяни вредить, чтоб оной из нынешних мест отдалять, а себя на тех местах утвердить»1.
Впрочем, участники восстания платили властям той же монетой. В сентябре 1755 г. мулла Чурагул в осинской воеводской канцелярии показал, что слышал от старшины Казанской дороги Кутлы Рысова, что «яко нас всех хотят положить в подушной оклад и збирать рекрут; а о том де ему, Купле, говорил господин брегадир Тевкелев, и дабы мы в то положение не давались, яко нас собраться может тысечь до 40, и о том же он, господин брегадир, говорил в Оренбурге, а в кое время, не знаю, что я слышел от муллы Батырши, старшине Шайле Кулумбетеву»2. Подобным образом некоторые близкие к руководству восстания участники пытались дискредитировать перед правительством одного из самых опытных и эффективных местных администраторов, выдвинувшегося в период подавления башкирского восстания 1735–1740 гг.
Следует отметить, что к дезинформации прибегали не только враждующие стороны. Стремление исказить реальное положение дел было свойственно и местным администраторам при подготовке отчетов в правительственные органы. Мы утверждаем, что именно донесения оренбургского губернатора И.И. Неплюева в Сенат о причинах башкирского восстания 1755–1756 гг. почти на два столетия предопределили неадекватную оценку этого события в исторической литературе.
В данной статье мы попытаемся выяснить, чем было обусловлено стремление оренбургского губернатора И.И. Неплюева наделить башкирское восстание 1755–1756 гг. значением религиозной войны.
Наиболее ясно причины восстания 1755–1756 гг. И.И. Неплюев охарактеризовал в своем донесении в сенат от 30 сентября 1755 г. В частности, губернатор отметил, что «хотя башкирские старшины и сотники нынешняго бунта зачинщики, в народе своем подлом разные притчины к возмущению народному внушали, яко то построения крепостей и заводов, а некоторый погублением меча стращали и даже до того, яко бы всех в неволю крестить определено, обольщая их в Киргиз-Кайсаках вольным житьем и тому подобныя внушении чинили, кто что вымыслил, чем бы народ подвигнуть, как то им удалось, но в самом деде нынешней, бунт основан на их нечестии, что Правительствующий Сенат изволил усмотреть из возмутительного мещеряка муллы Ба-тырши письма, которое от 9 ч[исла] во оной при моем поношении послано»3. Таким образом, И.И. Неплюев убеждал сенат, что главной причиной выступления является «нечестие», то есть иноверие башкир. При этом он ничего не говорит о нарушении вотчинных прав, наказаниях мусульман за попытки обратиться непосредственно к императрице и т. д.
Что касается методологии, то в данной статье мы применили принципы системного подхода. Так, взаимоотношения башкир и российских властей исследуются как совокупность взаимосвязанных соглашений, выстраиваемых в определенной иерархии. Наша задача состоит в том, чтобы показать место ислама в этой системе.
Первым историком, охарактеризовавшим восстание 1755–1756 гг., был Петр Иванович Рычков. Поскольку сам И.И. Неплюев считал его своим ближайшим помощником, то оценки характера и причин восстания у П.И. Рычкова не могли расходиться с мнением самого губернатора. Историк утверждал, что восстание 1755–1756 гг. – прямое следствие воззвания Батырши. Автор использует по отношению к исламу то же понятие, что применил И.И. Неплюев – «нечестие» (Рычков, 1999: 183–185).
В.Н. Витевский, поставивший перед собой задачу дать полный анализ деятельности губернатора И.И. Неплюева, прямо указывает на религиозную цель восстания 1755–1756 гг. Историк считает, что Батырша был не просто организатором волнений, но само это противостояние – результат религиозного притеснения башкир. Главная его причина – усиление процессов христианизации. Восстание ученый трактует как борьбу мусульман против неверных (Витевский, 1897).
Самый авторитетный российский историк XIX в. С.М. Соловьев не имеет сомнений относительно причин восстания 1755–1756 гг. И если В.Н. Витевский все же указал и на другие причины недовольства башкир, то крупнейший представитель государственной исторической школы полностью доверился той версии, которую выдвинул И.И. Неплюев (Соловьев, 1964: 233).
В XX в. наиболее адекватную оценку причин восстания дал Ю.А. Красовский, написавший соответствующий раздел в «Очерках по истории Башкирской АССР». Ученый задался резонным вопросом, почему в историографии восстания 1755–1756 гг. Батыршу называют его организатором и руководителем? По утверждению Ю.А. Красовского, Батырша не имел никакого отношения ни к началу восстания (Бурзянский бунт), ни к его финальной части – трагедии, разыгравшейся в казахских степях. С другой стороны, исследователю не удалось избежать влияния концепции кочевого феодализма. Он характеризовал Батыршу как представителя наиболее реакционной части башкирской феодальной знати1.
И.Г. Акманов видит отличие восстания 1755–1756 гг. от всех прежних выступлений в том, что оно началось под лозунгами священной войны. Вместе с тем ученый считает, что реакционный характер идеологии обрек восставших на поражение (Акманов, 1987: 54).
Наиболее объективная картина произошедшего представлена в третьем томе «Истории башкирского народа». И.Г. Акманов, написавший раздел о восстании 1755–1756 гг., отказался от прежних своих взглядов о реакционности идеологии, отметив, что религиозное угнетение было лишь одной из причин восстания. Батырша не был руководителем и идеологом восстания. Он сыграл важную роль в идейной подготовке противостояния, но уже в начале выступления он самоустранился от движения и не оказывал никакого влияния на восставших (История башкирского народа …, 2011: 238).
Таким образом, неплюевская трактовка событий 1755–1756 гг. почти на два столетия предопределила историографический дискурс. И только публикации последних лет показывают, что требования восставших нельзя сводить к религиозным лозунгам.
Отметим также, что до сего времени в литературе не делалось попыток объяснить стремление оренбургского губернатора придать противостоянию 1755–1756 гг. религиозную подоплеку.
Мы полагаем, что сохранившийся комплекс архивных и опубликованных источников дает возможность проследить процесс формирования отмеченного дискурса. Наибольшую ценность имеют дела из фонда секретного департамента сената2, а также документы из фонда «Башкирские» и «Киргиз-кайсацкие» дела из собрания Архива внешней политики Российской империи3. Из опубликованных источников отметим второй том «Материалов по истории Башкортостана», полностью посвященный восстанию4.
Начало 50-х гг. XVIII в. ознаменовалось активной деятельностью сибирского митрополита Сильвестра (Гловатского) и казанского епископа Луки (Конашевича). Как писал историк православной церкви П.В. Знаменский, «своими энергичными действиями против мусульманской пропаганды он (Сильвестр) также возбудил против себя волнение среди татар, особенно когда провел по поводу этой пропаганды два серьезных следствия в Барабинской степи и в Оренбургском крае»5.
В 1751 г. И.И. Неплюев вступил в открытый конфликт с Сильвестром. Тобольский митрополит обвинил 10 башкир Сальютской волости в уголовном преступлении и потребовал высылки их в Тобольск для последующего крещения. Дело в том, что в начале 1751 г. башкиры побили миссионера Дорофея Медведкова, осмелившегося в одиночку проповедовать христианство в башкирских селениях. Оренбургский губернатор И.И. Неплюев 20 марта 1751 г. направил в Сенат доношение, в котором в категорической форме предупредил правительство об опасности подобных действий сибирского митрополита. Губернатор не только отказался выдать башкир митрополиту, но и предупредил, что подобные действия Сильвестра могут спровоцировать новое восстание. И.И. Неплюев убеждал сенат, что башкиры – фанатичные мусульмане: «В противном своем магометанском законе столь крепкой и замерзели, что весьма сумнительно дабы они по легкомыслию своему в рассуждении оного своего закона не впали в какое крайнее отчаяние»1. Именно этим «отчаянием» И.И. Неплюев обосновывает возможность нового восстания, ссылаясь на опыт прежнего выступления 1735–1740 гг., когда окруженные со всех сторон крепостями башкиры «под видом охранения своей вольности и земли почти не за что бунтовали и помирали»2. Далее И.И. Неплюев раскрывает точный сценарий действий башкир в будущем восстании. Он говорит о том, что, видя преимущество правительственных сил в регионе, они вряд ли решатся на прямое столкновение с регулярными и иррегулярными частями гарнизонов, предпочтя «побег в киргиз-кайсаки»3.
И.И. Неплюев хорошо знал одного из 10 башкир. Салей (Салих) Бускунов – бывший старшина Сальютской волости, участник башкирского посольства 1733/34 гг. в Санкт-Петербург4. Таким образом, учитывая влияние этого известного старшины, губернатор предостерегал сенат, что арест башкир приведет к распространению слухов о насильственном крещении всего народа («о невольном крещении толков»).
Следует отметить, что И.И. Неплюев не первый российский администратор, стремившийся редуцировать характер башкирских восстаний до религиозных выступлений. После восстания 1704–1711 гг., когда российско-башкирские отношения вступили в фазу неопределенности, правительству было предложено несколько вариантов решения этого вопроса. Один из наиболее радикальных проектов предложил в 1728 г. казанский губернатор А.П. Волынский. Он доказывал, что никакие средства мирной интеграции не способны сделать из башкир лояльных короне подданных. На примере Византийской империи периода османской агрессии и Ирана династии Се-февидов А.П. Волынский показывал, к каким последствиям может привести ситуация, когда в одной империи подданные придерживаются различных религий. Губернатор был убежден, что подобные конфликты не могут быть урегулированы уступками: «Они (башкиры) имеют махоме-танской закон и по закону своему, конечно должны быть христианом неприятели, что уже к Российской империи неоднократно от них чрез бунты, а потом и самыми разорениями подданным злоба их явно показана»5.
Почему в XVIII в. представители высшей администрации сводят причины башкирских восстаний к религиозному конфликту? В XVII в. уфимская администрация вполне ясно осознавала действительные причины подобных выступлений. К примеру, первое крупное башкирское восстание 1662–1664 гг. сами власти объясняли нарушением своих соглашений с башкирами (Устюгов, 1947). Восстание 1704–1711 гг., завершившееся расторжением российского подданства башкир, было инспирировано действиями служащих Ижорской канцелярии. Этот факт официально был признан властями в ходе следствия 1721 г. (Рычков, 1999: 244). Определенное исключение в этом ряду составляет восстание 1682–1684 гг., спровоцированное слухами об открытии в Уфе епархии. Тем не менее о нарушении религиозных прав башкир в XVII в. говорилось намного реже, нежели о захвате вотчинных земель.
Начало XVIII в. связано с кардинальным изменением политики правительства в отношении нерусских народов. Петр I твердо встал на путь создания унитарного государства. Этот план предполагал равенство подданных по податному тяглу, административному управлению и конфессиональной принадлежности. Христианизация населения страны предусматривала экономические и административные меры. Целенаправленно эта политика проводилась на территории Поволжья, Урала и Сибири.
Классификация народов империи по религиозному признаку отражала процесс модернизации сознания правящей элиты. До XVIII в. конфессионим «мусульмане» (бусурмане) не имел правового или социального смысла. К примеру, в Соборном уложении о бусурманах говорится в единственной статье, где определяется наказание за переход из христианства в ислам6.
С другой стороны, мусульманские народы, будучи подданными русского царя, имели различный правовой статус. Башкиры, добровольно принявшие российское подданство, позиционировали себя представителями служилого сословия. В коллективных челобитных они называли себя «холопами». Мещеряки (мишари), считавшие себя потомками выезжих к великим государям ордынских мурз и казаков, также обладали служилым статусом, но, в отличие от башкир, не владели родовыми вотчинами. Казанские ясачные татары считались податными людьми, их положение мало отличалось от занимаемого государственными крестьянами.
Таким образом, в XVII в. отношение к мусульманским народам обуславливалось характером принятия ими российского подданства. К примеру, башкиры жили по обеим сторонам Уральских гор, но определенная часть их поддержала хана Кучума в его стремлении оказать сопротивление российской экспансии. В результате ясак, который платили те, кто добровольно принял подданство, на порядок отличался от возложенного на сибирских башкир. Ситуация предопределила и другие беспрецедентные привилегии для сознательно перешедших под руку русского царя – вотчинное право, право обращения к государю, свободу вероисповедания и т. д.
Для самих башкир религиозная принадлежность имела значение, но не следует полагать, что она была единственной или главной характеристикой их национальной идентичности. Мусульманами были не только припущенники башкир (которых российские администраторы сравнивали с холопами и крепостными вотчинников), но и их противники – казахи и каракалпаки. Для башкир религия – неотъемлемая часть их социальной структуры. В ней один элемент приобретает смысл только в связи с другими. Так, крещеный башкир переставал быть членом рода и, соответственно, собственником вотчинных земель. Более того, новообращенных по настоянию администрации выселяли в центральные губернии, потому что приверженность их христианству в условиях мусульманского окружения вызывала сомнения. Таким образом, переход в другую религию был равносилен утрате родины, прав и привилегий.
Однако к 20-м гг. XVIII в. стремление к гомогенизации населения империи порождает новый подход к классификации народов. Если прежде критерием такого разделения служил характер принятия подданства, то есть историческая традиция, то в имперской России народы начинают разделяться по религиозному признаку.
В определенной степени этот мировоззренческий переход можно объяснить с позиции эпистемологии Мишеля Фуко. К примеру, принцип добровольности принятия подданства вполне соответствует эпистеме ренессанса, в которой вся система знаний построена на отношениях подобия и аналогии. Пригнанность (лат. сonvenientia) означала пространственное соседство, которое взаимно обуславливало сходство: вещи были подобными из-за соседства и сближались по причине сходства (Фуко, 2012: 13). Нами уже отмечалась удивительная похожесть описаний ритуалов, символизирующих принесение присяги подданства башкирами Чингисхану и Ивану IV (Азна-баев, 2005: 96). Таким образом, они видели в российском монархе правопреемника Чингисхана. Грозный поддерживал эту аналогию, официально жалуя права тарханства главам башкирских родов. Делать это имели право только ханы – представители «золотого рода».
Переход к классической эпистеме, по утверждению М. Фуко, означал торжество нового порядка, основанного не на аналогии, а на тождестве и различии (Фуко, 2012). Отныне элементы реальности не воспринимаются через сходство, они группируются в классы с помощью единого порядка меры. При этом такая классификация признается законченной и устойчивой. Элементы не могут переходить из одного класса в другой. Единым порядком меры для упорядочивания народов Российской империи становится религия.
Любопытно, что в середине XVIII в. наиболее образованные правители Оренбургского края (В.Н. Татищев и И.И. Неплюев) опровергали предание о добровольном вхождении башкир в состав Российского государства. В.Н. Татищев, как известно, прославился показательными сожжениями башкир, перешедшими из православия в ислам (Шакинко, 1986: 144).
Вместе с тем гипотеза об эпистемиологическом переходе не исключает прагматических соображений, которыми руководствовался И.И. Неплюев в своем стремлении объяснить причины восстания 1755–1756 гг. исключительно принадлежностью башкир к исламской религии. Он был назначен главой Оренбургской комиссии в 1742 г. после самого крупного восстания 1735– 1740 гг. По данным И.Г. Акманова, в этот период были убиты, казнены или сосланы на каторгу свыше 40 тыс. башкир (Акманов, 2016: 344). Н.Н. Томашевская считает, что численность данного народа в конце 20-х гг. XVIII в. составляла 167 тыс. человек (Томашевская, 2002: 39–42). Через два года после подавления башкирского восстания 1755–1756 гг. И.И. Неплюев подал в отставку. При назначении на должность ему вменялось в обязанность предотвращение выступлений, подобных восстанию 1735–1740 гг. (Витевский, 1897: 178). Однако задачу эту И.И. Неплюев понял в ракурсе усиления присутствия российских вооруженных сил в крае. Он довел число крепостей до 70, усилил и реорганизовал яицкое и оренбургские казачьи войска. Но его политика в отношении башкир ничем принципиально не отличалась от деятельности предшественников. Он активно поддерживал строительство заводов, что вызывало недовольство вотчинников. Восстание 1755– 1756 гг. началось с убийства башкирами начальника горно-изыскательных работ Брагина. И.И. Неплюев жестоко пресекал попытки башкир направить в столицу своих представителей для принесения жалоб. Он принудил их покупать соль из казенных магазинов, запретив пользоваться соляными промыслами на Илеке, которые прежде считались владениями башкир. Именно об этом в своих воззваниях к населению и письме Елизавете Петровне писал несостоявшийся руководитель восстания Абдулла Галеев по прозвищу Батырша1.
Подводя итоги, следует отметить, что восстание 1755–1756 гг. явилось прямым результатом целого ряда мероприятий, лично инициированных И.И. Неплюевым. Парадоксально, но именно в области защиты религиозных прав башкир он проявил наибольшую активность. Губернатор действительно пытался оказать противодействие насильственной христианизации башкир со стороны сибирских и казанских миссионеров. Однако именно это обстоятельство позволило И.И. Неплюеву настаивать на том, что восстание имело исключительно религиозную подоплеку. Впоследствии это помогло ему избежать расследования его деятельности. Более того, правительство Елизаветы Петровны не только поверило оренбургскому губернатору, но и провело ряд мероприятий, которые, по мнению властей, должны были исключить подобные выступления в будущем. Лука Конашевич и Сильвестр Гловатский, отличившиеся на ниве агрессивного миссионерства, еще в ходе восстания были сняты со своих должностей. Указом от 23 августа 1756 г. мусульманам Казанской, Нижегородской и Сибирской губерний было разрешено беспрепятственно возводить новые мечети2. Таким образом, российское правительство сделало первый шаг на пути признания ислама в качестве терпимой государством религии.
Список литературы Роль религиозного фактора в башкирском восстании 1755-1756 гг
- Азнабаев Б.А. Интеграция Башкирии в административную структуру Российского государства: вторая половина XVI -первая треть XVIII вв. Уфа, 2005. 228 с.
- Акманов И.Г. Башкирские восстания XVII-XVIII веков: феномен в истории народов Евразии. Уфа, 2016. 371 с.
- Акманов И.Г. Башкирские восстания в XVII-XVIII в. Уфа, 1987. 72 с.
- Витевский В.Н. И.И. Неплюев. Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 года. Казань, 1897. Вып. 5. 198 с.
- История башкирского народа: в 7 т. / гл. ред. М.М. Кульшарипов. Уфа, 2011. Т. 3. 475 с.
- Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. Уфа, 1999. 309 с.
- Соловьев С.М. История России с древнейших времен: в 15 кн. М., 1964. Кн. 12, т. 23-24. 715 с.
- Томашевская Н.Н. От социального пространства к социальному времени: опыт этнической истории башкирского этноса в новое время. Уфа, 2002. 236 с.
- Устюгов Н.В. Башкирское восстание 1662-1664 гг. // Исторические записки. М. ; Л., 1947. Т. 24. С. 30-110.
- Фуко М. Археология знания. СПб., 2012. 415 с.
- Шакинко И.М. Василий Татищев. Свердловск, 1986. 240 с.