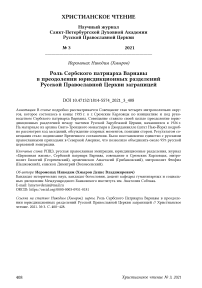Роль сербского патриарха Варнавы в преодолении юрисдикционных разделений Русской Православной Церкви заграницей
Автор: Хмыров Денис Владимирович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 3 (98), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье подробно рассматривается Совещание глав четырех митрополичьих округов, которое состоялось в конце 1935 г. в г. Сремские Карловцы по инициативе и под руководством Сербского патриарха Варнавы. Совещание ставило своей целью преодоление юрисдикционных разделений между частями Русской Зарубежной Церкви, начавшихся в 1926 г. На материале из архива Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (штат Нью-Йорк) подробно рассмотрен ход заседаний, обсуждение спорных моментов, позиции сторон. Результатом совещания стало подписание Временного соглашения. Было восстановлено единство с русскими православными приходами в Северной Америке, что позволило объединить около 95% русской церковной эмиграции.
Рпцз, русская православная эмиграция, юрисдикционные разделения, журнал «церковная жизнь», сербский патриарх варнава, совещание в сремских карловцах, митрополит евлогий (георгиевский), архиепископ анастасий (грибановский), митрополит феофил (пашковский), епископ димитрий (вознесенский)
Короткий адрес: https://sciup.org/140255117
IDR: 140255117 | DOI: 10.47132/1814-5574_2021_3_408
Текст научной статьи Роль сербского патриарха Варнавы в преодолении юрисдикционных разделений Русской Православной Церкви заграницей
В июне 1926 г. в г. Сремские Карловцы (Югославия) состоялся Архиерейский Собор, на котором произошел разрыв с митрополитами Евлогием (Георгиевским) и Платоном (Рождественским). Это трагическое для всей Русской Церкви событие вызвало бурю откликов, как в среде духовенства, так и в среде простых верующих. Высшие органы церковного управления РПЦЗ (Архиерейский Собор и Синод) сразу стали проводить политику умиротворения, направленную на то, чтобы раскол не стал окончательным. Журнал «Церковные ведомости» весь 1926 и 1927 год публикует посвященные этому вопросу статьи и заметки1.
Раскол части западноевропейских и североамериканских общин воспринимался как тяжелое бремя как русской эмиграцией, так и Православными Церквами-сестрами. Поэтому в призывах к восстановлению церковного единства не было недостатка. Архиерейские Соборы начиная с 1933 г. регулярно занимались проблемой возможного восстановления церковного единства. В этом году Румынский патриарх и Афинский архиепископ обратились к эмиграции с призывом к воссоединению. Сербский патриарх Варнава предложил свое посредничество. В августе 1934 г. в журнале «Православная Русь» был опубликован призыв 24 иерархов к восстановлению церковного единства, его подписали митр. Варшавский Дионисий, еп. Иоанн (Поммер) и другие иерархи.
В ответ на это в редакцию журнала стали поступать многочисленные одобрительные письма от епископов-эмигрантов: североамериканские архиереи отреагировали положительно, за исключением епископов Леонтия (Туркевича) (он всю свою жизнь оставался поборником автокефалии в Северной Америке), Вениамина (Федченкова) и Антонина (Покровского).
Архиерейским Собором в 1933 г. была издана резолюция, в которой архиереи высказали свое сожаление о расколе и заверили, что все архиереи, которые расстались с Зарубежной Церковью, вновь могли бы быть приняты в литургическое общение, если бы они признали Архиерейский Синод в качестве канонической власти. В мае 1934 г. митр. Антоний обратился к архиереям и верующим в Северной Америке и призвал их к восстановлению церковного единства. На этот призыв положительно ответил преемник митр. Платона (умершего в 1934 г.) — митр. Феофил (Пашковский). Он объявил о своей готовности к диалогу.
После этого Архиерейский Синод снял с североамериканских архиереев и духовенства запрещение в священнослужении от 1927 г. В марте 1935 г. оба управляющих североамериканскими епархиями Митрополии и Зарубежной Церкви, митр. Феофил и еп. Виталий (Максименко), совершили совместное богослужение. Этим был сделан важный шаг к воссоединению.
Встреча митрополита Евлогия с митрополитом Антонием в 1934 г .
В мае 1934 г. митр. Евлогий отправился в Сербию, чтобы встретиться с митр. Антонием. В Белграде прошло несколько встреч обоих иерархов и одно заседание Архиерейского Синода, в котором, помимо митрополитов, принимали также участие еп. Серафим (Ляде) и еп. Виталий (Максименко). Митр. Антоний сделал доклад о возможном восстановлении литургического общения, но ясно дал понять, что данный шаг нуждается в одобрении Архиерейским Собором.
Вот как описывает свой приезд митр. Евлогий:
Об этом не знал никто. Лишь в день отъезда я дал знать в Париж, что еду в Сербию для личного свидания с митрополитом Антонием. И это, действительно, так и было. Мне горячо хотелось одного, — чтобы мы, два престарелых епископа, перед смертью облегчили свою совесть, примирились. <…> Когда я вошел, митрополит Антоний в окружении нескольких духовных лиц доканчивал утреннее правило. Больной, дряхлый, он сидел в кресле и заплетающимся языком произносил возгласы. Я подошел к нему. Он заплакал… Первые минуты нашей встречи прошли на людях. Пили чай. Говорить было трудно. Митрополит Антоний грустно глядел на меня. «Все такой же... и улыбка все та же...» — сказал он. Слушать бедного больного моего друга и учителя было мне горько. «Пойдем, прочтем молитву», — предложил он. Мы перешли в его маленькую спальню. Митрополит Антоний надел епитрахиль и прочел надо мною разрешительную молитву. Потом я — над ним. На душе стало ясно и легко… «Ты с дороги устал, — отдохни… Потом поговорим» [Евлогий Георгиевский, 1947, 576–577].
Патриарх Варнава также оказал ему радушный прием. Однако митр. Евлогий не скрывает того, что прежние разногласия никуда не делись:
Патриарх Варнава встретил меня очень ласково, говорил о разрыве между мною и «карловчанами» и выразил желание, чтобы мир как можно скорей был восстановлен и завершился нашим общим с митрополитом Антонием служением. Я указал на незаконность наложенного на меня запрещения. «Протягивать руку, просить о примирении я не буду, — сказал я, — а молитвенное общение было бы мне утешением, но епископы считают, что без нового постановления Синода это невозможно…» Патриарх высказал желание теперь же устроить сослужение мое с карловацкими епископами; об этом же усердно хлопотали и приходы, однако без успеха. Желая, по-видимому, всенародно показать всю ничтожность наложенных на меня запрещений, Патриарх пригласил меня отслужить в Хопов-ском монастыре: высшая церковная власть в Сербии, под покровительством которой находился Карловацкий Синод, как бы подчеркивала, что не признает этого постановления Синода [Евлогий Георгиевский, 1947, 577].
В такой трактовке уже нетрудно заметить желание митр. Евлогия разделить позицию Архиерейского Синода и патр. Варнавы, представив шаги к примирению не как жесты доброй воли, а как отдельные поступки сторон, в чем-то даже противостоящих.
Между тем патр. Варнава и Архиерейский Синод снова выступили с инициативой, и летом 1935 г. митр. Евлогий получил приглашение прибыть в Карловцы на особое совещание иерархов, представителей четырех главных частей Зарубежной Русской Церкви.
Патриарх Варнава
Судьба патр. Варнавы отразила все перипетии того сложного времени. Сербский патриарх Варнава (в миру Петар Росич) родился в 1880 г. на севере Черногории, в 1901–1905 гг. обучался как стипендиат Святейшего Синода в Санкт-Петербургской духовной академии. 30 апреля 1905 г. был пострижен в монашество епископом Ям-бургским Сергием (Страгородским). В августе отбыл в Константинополь в качестве священника при дипломатической миссии в Сербии. В своей епархии поддерживал сербскую пропаганду в противовес болгарской, активно боролся с Болгарским экзархатом. С 1913 г. управлял Битольской и Охридской епархией, а также Струмицкой епархией. В 1915 г. вместе с отступающей сербской армией был вынужден эвакуироваться на Корфу. Во второй половине 1916 г. и до 18 октября 1917 г. по просьбе сербского правительства находился в России с дипломатической миссией, а также как делегат Сербской Церкви принимал участие в заседаниях Поместного Собора Православной Российской Церкви, который открылся в Москве в августе 1917 г.
В 1930 г. скончался Сербский патриарх Димитрий, и 12 апреля патриархом избрали Варнаву. Александр I Карагеоргиевич утвердил его в тот же день.
На посту предстоятеля Церкви патр. Варнава провел ряд административных и финансовых реформ; при нем был разработан новый устав Церкви, учреждены
Загребская и Прешовско-Мукачевская епархии, заложен собор Святого Саввы в Белграде и многие другие храмы в стране, возведено новое здание Патриархии.
С иерархами РПЦЗ патр. Варнаву связывали самые теплые отношения, поэтому, несмотря на свою огромную занятость, он находил время, чтобы принимать горячее участие в судьбах Русской Зарубежной Церкви.
Встреча глав четырех округов
В октябре 1935 г. состоялась встреча управляющих четырех церковных округов: Балканского — митр. Анастасий, Западноевропейского — митр. Евлогий, Североамериканского — митр. Феофил, Дальневосточного — еп. Димитрий. Переговоры были крайне тяжелыми и продолжались 18 дней.
Вот как обозначил свою позицию в воспоминаниях митр. Евлогий:
Как только работа нашего Совещания началась, сразу же выяснилось сложное и трудное мое положение. Я прибыл в Карловцы неподготовленный, без разработанного статута управления зарубежной Церкви, и должен был разбираться во всем, что предлагалось, совсем один против сплоченной, сильной, по духу непримиримой группы, которая энергично преследовала поставленную себе цель, опираясь на Собор. Мои надежды на митрополита Феофила Американского, как на моего единомышленника и соратника, не оправдались. Владыка Феофил, тип провинциального соборного батюшки, не разбирался (и не очень старался разобраться) в сложном конфликте, породившем наш раскол, и попросту перешел в лагерь большинства. Эксперт Сербского Синода, профессор канонического права Троицкий, который мог бы мне оказать поддержку, тоже зачастую защищал точку зрения карловацких иерархов. Протоиереи Ломако и Аметистов оказались также помощниками слабыми; вся тяжесть борьбы легла на мои плечи [Евлогий Георгиевский, 1947, 584].
Далее митр. Евлогий объясняет, почему он все-таки продолжил участвовать в Совещании:
Архиепископ Анастасий занял непримиримую позицию. Очень скоро я увидал, что у «карловчан» все уже решено и наше Совещание ничего сообща не вырабатывает, а мне навязывают готовый и детально разработанный проект, никакой переработке в своих основных линиях, по мысли его составителей, не подлежащий. В первые же три дня создалось такое положение, что казалось неизбежным Совещание прервать. Логически так, вероятно, поступить и нужно было, но морально решиться на это мне представлялось невозможным. Здесь, в Сербии, я почувствовал с особой силой прибой народного чувства, трепетное молитвенное ожидание церковного мира. Первое, после 1926 года, совместное служение четырех русских иерархов (я, митрополит Феофил, архиепископ Анастасий и епископ Димитрий) в русской церкви собрало великое множество народу. Когда я вышел с проповедью о единстве Русской Церкви и сказал, что мы его запечатлели нашими общими молитвами в русском храме, то на глазах многих заблестели слезы… Русский народ церковный напряженно ожидал примирения, а Патриарх Варнава трогательно болел душой за нас. Его внимание, ласка, заботы, миролюбие обезоруживали и подкупали… [Евлогий Георгиевский, 1947, 584–585].
В этом же 1935 г., в последнем номере журнале «Церковная жизнь» (официальном органе Архиерейского Синода, издавался под редакцией управляющего канцелярией Г. Граббе), № 11–12, был опубликован ряд материалов, которые подробно освещали процесс переговоров по воссоединению церковной эмиграции: статьи, протоколы, проекты и окончательный вариант Временного положения о Русской Православной Церкви заграницей.
Чтобы читатель мог составить полное и независимое суждение, мы привели эти протоколы полностью в Приложении к статье2. Скриншоты документов были получены из архива Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле3. Выражаю глубокую благодарность Михаилу Петровичу Перекрестову, исполнительному директору Российского исторического фонда, а также Андрею Алексеевичу Любимову, администратору библиотеки Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле, за любезно предоставленные ими материалы.
В предваряющей статье журнала говорилось:
Промысел Божий видимо бодрствовал над нами, спасая нас от самих себя. Среди общего смятения Он сберег себе остаток избранных, которые не переставали, однако, скорбеть о рассечении зарубежного церковного тела на части, считая его величайшим бедствием для всей Русской Церкви. От них и прежде всего от самих иерархов стали исходить призывы к примирению, нашедшие себе живой отклик во многих сердцах, утомленных церковной смутой. Постепенно развиваясь, это благодетельное миротворческое движение привело к тому, что Высокопреосвященный Митрополит Евлогий прибыл в мае минувшего года для взаимного примирения и восстановления молитвенного общения с Блаженнейшим Митрополитом Антонием. За этим актом последовал другой, еще более важный — снятие Собором Архиереев прещений, наложенных на епископов и духовенство Западной Европы и Америки Собором 1927 года. Одновременно с этим определением Собора сами собою пали преграды, мешавшие до сих пор литургическому общению между духовными лицами разных церковных юрисдикций.
Вся зарубежная паства радостно приветствовала эту меру, облегчавшую совесть, особенно клира и мирян, и открывавшую путь к дальнейшему упрочению мира в зарубежной части Русской Церкви. Для полного торжества последней недоставало только восстановления единства юрисдикции Зарубежной Русской Церкви: без этого условия церковное примирение было бы непрочно и ежеминутно могло бы подвергаться новым испытаниям.
В статье особо подчеркивалась значительная роль, которую сыграл Сербский патриарх Варнава:
Высокочтимый Глава Сербской Церкви долго искал путей к восстановлению нарушенного русского церковного единства в зарубежье, пока в своей архипастырской мудрости не нашел такого средства, которое казалось наиболее целесообразным для исцеления нашего давнего недуга. Он решил пригласить в Сремские Карлов-цы четырех иерархов в качестве представителей четырех главных областей, по которым давно распределились русские православные люди заграницей — Америки, Дальнего Востока, Западной Европы и Балкан с Ближним Востоком — на нарочитое Совещание по столь важному и жизненному вопросу, возглавленное непосредственно им самим, в надежде, что этот малый собор иерархов, действуя в духе братской любви и взаимного доверия, найдет наконец действительное средство для искоренения русской церковной смуты заграницей. Имя Его Святейшества Патриарха Варнавы, как крепкого стоятеля за Русский народ и постоянного печальника за страждущую Русскую Церковь, давно уже пользуется высоким авторитетом во всем русском рассеянии. Естественно, что приглашенные им архиереи (Митрополит Евлогий, Митрополит Феофил, Архиепископ Анастасий и Епископ Димитрий) с благодарным и радостным чувством отозвались на его призыв и прибыли в Сремские Карловцы на означенное Совещание.
Из этого отрывка мы видим, что сама идея созыва глав четырех областей исходила именно от патр. Варнавы. Заседания проходили под председательством Святейшего патриарха Варнавы в октябре-ноябре 1935 г. в покоях его святейшества при участии митр. Евлогия, митр. Феофила, митр. Анастасия и еп. Димитрия.
Четыре протокола
В журнале «Церковная жизнь» были напечатаны четыре протокола совещаний, в которых подробно рассматривались точки зрения и высказывания каждого участника, а также подводные камни на пути к примирению.
Для проведения заседаний Патриарх Варнава предоставил Патриарший дворец и первое заседание, 18/31 октября, открыл своей речью, в которой обозначил главную цель Совещания: он «предложил присутствующим обсудить пути и средства к восстановлению нарушенного церковного единства».
Далее все участники выступили с заявлениями, в которых говорили о причинах разделения, условиях объединения, ожиданиях паствы и организационных формах. Митр. Евлогий «заявил, что главная причина разделений в зарубежной части Русской Церкви не столько внешняя — в необъединенности и несогласованности церковных учреждений, — сколько внутренняя, нравственная, состоящая в том, что между русскими иерархами заграницей утрачена взаимная, связующая, братская любовь, уважение, взаимное доверие, что взамен этого развилась атмосфера подозрительности и вражды». При этом митрополит употреблял совсем не церковные выражения, а стилевые обороты, схожие с большевистской риторикой, например: «Необходимо изжить эту вредную психологию, и тогда мир церковный восстановится скоро и прочно». Также митр. Евлогий выдвинул ряд условий для объединения Русской Зарубежной Церкви: 1) на это должно быть испрошено благословение Вселенского Престола и других глав Автокефальных Православных Церквей и 2) сам митрополит должен сохранить свое положение как экзарх Вселенского Патриарха. Относительно формы устроения Русской Церкви за границей митр. Евлогий указал, что «в основу ее организации должно быть положено разделение на четыре митрополичьих округа, связь между которыми могла бы осуществляться периодически созываемыми соборами». Как мы увидим далее, эта мысль разделялась всеми участниками, об авторстве же этой идеи существуют разные мнения.
Архиеп. Анастасий, говоря об условиях объединения, заявил, что атмосфера подозрения и недоверчивости может быть изжита лишь при условии единства юрисдикции, которое находит свое осуществление в объединяющих все зарубежье церковных органах — Соборе и Синоде. Можно допустить существование отдельных округов, но при условии, что они «будут объединены воедино постоянно действующим центром». В этом высказывании уже видно некоторое противоречие с позицией митр. Евлогия, который говорил лишь о периодически созываемых соборах и обходил вопрос о полномочиях «постоянно действующего центра», то есть Архиерейского Синода. На следующих заседаниях этот вопрос станет одним из главных камней преткновения, по которому стороны так и не придут к единому мнению. Интересно, что архиеп. Анастасий не читал заранее заготовленную речь, а ответил на тезисы предыдущих докладчиков. В своей речи он очень четко обозначил основные проблемы Русской Зарубежной Церкви — скорее даже не богословские или юрисдикционные, а социально-политические. Он указал на «перекрестное воздействие инославных и иноземных веяний», «печальный процесс денационализации нашей эмиграции» и влияние «местных центробежных сил». Цель объединения заключается в преодолении этих проблем — тогда Церковь «возвратит себе должный авторитет, как в глазах других Восточных Церквей, так и перед лицом всего инославного мира» и в результате «сохранит неповрежденным национальный русский лик нашей эмиграции». Архиеп. Анастасий высказался как однозначный сторонник единого церковного центра, назвав его влияние «оздоравливающим». Он также отметил пользу, которую принесет такой центр североамериканским и западноевропейским приходам «в борьбе с местными центробежными силами, а также в деле восстановления церковной дисциплины среди клира и мирян вообще».
Преосвящ. Димитрий заявил, что был всегдашним противником округов, но теперь изменил свое мнение и «готов допустить округа в Западной Европе и Америке и новый, выборный от округов Синод, взамен чего казалось бы естественным, чтобы защитники идеи окружного управления со своей стороны сделали уступки, допуская существование единого связующего центра». Здесь мы видим, что на Совещании речь действительно шла о реальных, серьезных шагах по изменению прежнего способа формирования Архиерейского Синода и всей системы высших церковных органов управления.
В конце первого заседания была принята основа для дальнейших обсуждений: «Святейший Патриарх Варнава, резюмируя высказанное сторонами, отметил, что по-видимому, все сходятся на таком устройстве Русской Православной Церкви заграницей: Собор и Синод, как постоянная административная центральная власть, а на местах округа, разделенные на епархии и возглавленные Окружными митрополитами». После чего архиеп. Анастасий предложил дальнейшую работу заседания вести, «не обременяя Святейшего Патриарха непосредственным участием в них», а присоединиться, когда проект будет полностью готов.
Итоги совещания
После всех многочисленных и сложных обсуждений было выработано Временное положение о Русской Православной Церкви заграницей. В двух первых разделах документа была определена позиция Зарубежной Церкви и высшего духовного органа. В следующих разделах были определены компетенции и права Архиерейского Собора (III), Архиерейского Синода (IV), Председателя Архиерейского Синода (V), митрополичьих округов (VI: Западная Европа, Ближний Восток, Дальний Восток, Северная Америка) и их глав (VII).
В целом этот документ подтверждал компетенцию Архиерейского Собора и Архиерейского Синода как центральной церковной власти согласно постановлению 1922 г. Но преимущество нового устава состояло в том, что права и обязанности теперь точно были определены и установлены, и возможность интерпретации исключалась.
Участники на переговорах подписали документ как уполномоченные от своих церковных округов, патр. Варнава — как председатель.
В № 11–12 «Церковной жизни» за 1935 г., как приложение к первому протоколу, был напечатан окончательный проект Положения. Он «вырабатывался в ряде заседаний и в последней своей редакции прилагается к сему протоколу». В нем следует отметить два интересных момента: участники согласились, что проект мог подлежать некоторым изменениям и дополнениям в зависимости от местных условий, а также должен быть одобрен высшей церковной властью в России. Кроме того, митр. Евло-гий заявил, что проект «не изменяет положения его как экзарха Вселенского Патриарха, ибо только через последнего осуществляется общение Митрополита Евлогия со Вселенской Церковью», — и привел в пример митр. Антония, который был одно время экзархом Вселенского Патриарха для Галиции. Тезис подвергся опровержению со стороны архиеп. Анастасия и еп. Димитрия — далее по этому вопросу развернулась полемика на страницах «Церковной жизни».
Также митр. Евлогий высказался за изменение п. 2, раздела VII, который гласил: «Митрополит округа имеет попечение о всей области и созывает Соборы входящих в нее епархиальных архиереев и в случае надобности дает им братские советы», — «в том смысле, что митрополиту округа предоставляется руководящее попечение и для сего право посещения всех приходов его округа». К этому мнению присоединился и митр. Феофил. А вот архиеп. Анастасий и еп. Димитрий решительно высказались против «права визитации» окружными митрополитами епархий, входящих в состав округа. Таким образом, этот спорный вопрос на Совещании урегулировать не удалось.
Протокол № 1, помимо некоторых небольших дополнительных поправок в текст проекта, содержит знаменательный перечень предварительных мер, призванных сгладить последствия многолетнего разделения. Вот эти тактические шаги, принятые Совещанием:
-
1) Возможно более частые сослужения иерархов существующих ныне юрисдикций.
-
2) Непринятие в свое ведение клириков другой юрисдикции без отпускных грамот их епископов.
-
3) Прекращение полемики друг с другом и по возможности предотвращение ее в повременной печати или путем распространения враждебных листков, воззваний и т. д.
-
4) Издание примирительного воззвания, под которым должны быть подписи и всех членов Совещания.
-
5) Недопущение открытия новых, параллельных приходов при наличии существующих приходов иной юрисдикции.
Мы видим, что это были действительно значительные шаги на пути к объединению Русской Зарубежной Церкви.
Дальнейшая судьба документа
Итак, благодаря содействию патр. Варнавы удалось подписать заключительный протокол о «Временном уставе Русской Церкви заграницей». Но чтобы достичь легитимного статуса, «Уставу» необходимо было еще получить одобрение у отдельных церковных округов (епархиальных собраний). Немецкий историк Георг Зайде отмечает, что митр. Евлогий уже при посещении своего викарного епископа Сергия в Праге сделал оговорки по результатам переговоров. Епархиальный округ митр. Евлогия подверг критике слишком большую центральную власть Архиерейского Собора и Синода и изъявлял готовность согласиться с «Уставом» только при условии, если Вселенский патриарх, которому подчинялись эти общины, согласится с их выходом из его юрисдикции.
Но оказалось, что свою «верность» Вселенскому патриарху сторонники митр. Ев-логия использовали лишь как предлог для того, чтобы отложить голосование. Так или иначе, говорит Г. Зайде, «в 1945 году „парижская юрисдикция'1 рассталась с Константинополем и подчинилась Московскому Патриарху, вообще не оповестив Вселенского Патриарха о смене своей юрисдикции!» [Seide, 1989]4.
Только в июне 1936 г. было созвано Епархиальное собрание в Париже, в котором приняли участие 109 человек, представлявших 55 общин. Имелись как сторонники, так и противники воссоединения, но все же, в конце концов, победу одержали последние.
Архиереи Евлогий и Сергий с самого начала, как оказалось, скептически относились к идее воссоединения. Участие митр. Евлогия в переговорах можно, пожалуй, объяснить только тем, что он желал учесть настроения времени. В 1933–1934 гг. для объединения имелись наиболее благоприятные условия. Кроме того, он не мог отказаться от приглашения Сербского патриарха и не желал находиться в положении единственного противника «веяния времени». Одним из участников переговоров (графом Г. Граббе, ставшим в дальнейшем епископом Григорием) автору
(Г. Зайде) сообщалось, что митр. Евлогий на протяжении всех переговоров казался очень нерешительным и все шаги всегда согласовывал со своим Епархиальным советом в Париже, с которым он в течение всех переговоров находился в постоянном контакте.
По поводу дальнейшей судьбы подписанного документа митр. Евлогий вспоминает:
По приезде в Париж я созвал Епархиальный совет и познакомил его с работами архиерейского Совещания в Карловцах, не скрывая отрицательных сторон проекта «Временного положения», принятого на Соборе. Основным дефектом я считал последовательно проведенный принцип централизации, усиливающий власть Синода и Собора за счет окружного Управления митрополией. Излишнюю централизацию управления церковными областями, разделенными огромными расстояниями, с различным характером и укладом церковной жизни, я считал по существу идеей неудачной и стоял за более широкие полномочия власти на местах. Были недочеты и экономического характера, например сложный вопрос, как обеспечить существование нескольких епархиальных Управлений в одной митрополии вместо существующего одного Управления. Но наиболее трудным и неприемлемым пунктом этого «Положения» явилось обращенное ко мне требование выйти из юрисдикции Вселенского Патриарха. В заключение доклада я заявил, что всегда действовал в согласии с церковным народом и так же намерен поступить и теперь.
-
<. ..> На первом же заседании я ознакомил Епархиальное собрание со всеми перипетиями моих взаимоотношений с «карловчанами» за последний год и со всеми обстоятельствами моей поездки в Белград, которая привела к уродливому проекту «Временного положения», сводившему на нет автономию Западноевропейской епархии и требовавшему моего отрыва от Вселенского Престола… <…> Атмосфера на Съезде создалась довольно напряженная. Одни его члены носились с лозунгом «Мир!.. мир!..», другие относились к этому лозунгу более вдумчиво, сдержанно [Евлогий Георгиевский, 1947, 588–589].
Далее митр. Евлогий прямо признается, что постарался «парализовать» требования мира и «пропаганду» его сторонников: «В окружении Съезда стал действовать какой-то „Комитет примирения'1 с участием графини Шуваловой; появились агитационные брошюрки с требованиями мира во что бы то ни стало. Но мы вовремя остановили эту пропаганду на Съезде посторонних лиц, чем парализовали энергичный натиск „карловацких“ приверженцев и вызвали в их лагере крайнее неудовольствие. После всестороннего обсуждения и оживленных дебатов „Временное положение“ было Съездом отвергнуто».
Оба викарных епископа — Владимир (Тихоницкий) и Александр (Немоловский), напротив, оказались сторонниками воссоединения: они положительно отреагировали на уже упоминаемое обращение «Православной Руси». Теперь, после окончания переговоров, они не дали ни одного негативного комментария по их результатам. Впрочем, архиеп. Александр в 1946 году расстался с митр. Евлогием и подчинился Москве, архиеп. Владимир в 40-х годах в качестве преемника митр. Евлогия поддерживал различные усилия, направленные на воссоединение.
Тем не менее было восстановлено единство с Северной Америкой, и это уже был большой успех: «Зарубежная Церковь теперь представляла около 95% церковной эмиграции», — отмечает немецкий историк.
Итак, в 1935 г., при активном посредничестве Сербского патриарха Варнавы, состоялось примирение между юрисдикционными ветвями Русской Православной Церкви заграницей: полное — с Северо-Американской епархией, и частичное — с Западно-Европейской. Было выработано Временное положение, которое предполагало создание четырех митрополичьих округов и позволяло сохранять их значительную самостоятельность в рамках административного единства. И это событие не могло бы состояться без активной братской помощи Сербского патриарха Варнавы.
Список литературы Роль сербского патриарха Варнавы в преодолении юрисдикционных разделений Русской Православной Церкви заграницей
- Церковная жизнь. Сремские Карловцы. 1935. № 11-12 // Архив Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (штат Нью-Йорк).
- Евлогий Георгиевский (1947) - Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни: Воспоминания митрополита Евлогия / Излож. по его рассказам Т. Манухиной. Париж: YMCA Press, 1947. 678 с.
- Хмыров (2016) - Хмыров Д. В. РПЦЗ в 20-е годы ХХ века. СПб.: Изд-во СПбПДА, 2016.
- Seide (1989) - Seide G. Verantwortung in der Diaspora. Die Russische Orthodoxe Kirche im Ausland. München, 1989.