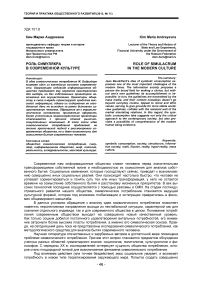Роль симулякра в современной культуре
Автор: Ким Мария Андреевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 11, 2013 года.
Бесплатный доступ
В идее символического потребления Ж. Бодрийяра выражен один из важнейших вызовов современности. Окружающее индивида информационное общество предлагает ему огромное пространство для выбора, но без собственных ориентиров невозможно его осуществление. Ориентиры обществу в свою очередь транслируют средства массовой информации, однако их содержание на сегодняшний день не выходит за рамки бытового существования человека. Обращение же к морально-этическим основаниям, призванным оформить более устойчивые мировоззренческие ориентиры сталкивается с прочной стеной рыночно-симулятивных отношений. В этой связи идея символического потребления предлагает не только критический подход к рассмотрению современного общества, но и дает возможность для осмысления бытия современного человека.
Общество символического потребления, симулякр, информационное общество, миф, иллюзия, реальность, гиперреальность, массовая культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14934993
IDR: 14934993 | УДК: 101.8
Текст научной статьи Роль симулякра в современной культуре
Современное нам информационное общество ставит человека перед значительными трансформациями собственной жизни и необходимостью их осмысления для анализа собственного бытия. Социальные изменения, которые господствуют сейчас, приводят к возникновению совершенно иных социальных реалий. Они происходят настолько быстро, что человек не успевает сориентироваться и понять суть тех или иных трансформаций, у него не остается времени на осмысление собственного бытия и расстановку жизненных приоритетов. В век высоких технологий последнее осуществляется с помощью рекламы и СМИ. На стадии постиндустриального развития нашего общества, символическое потребление становится ведущей культурной формой, которая под влиянием глобализации и интеграции превратилась в феномен общемирового масштаба.
В данных условиях обращение к анализу идеи символического потребления позволяет наметить перспективные направления выхода из нестабильной ситуации, характерной как для сознания отдельного индивида, так и для современного общества в целом. Понимание потребления современным обществом выходит на совершенно новый качественный уровень. Как только социум добился постоянного удовлетворения витальных потребностей, его внимание затронули более высокие пласты потребления, а именно его символическая основа. Правда, на сегодняшний день пока не представлены исследования символического потребления, как методологического средства для анализа бытия современного человека.
Научная литература отечественных и зарубежных авторов в достаточной мере посвящена проблеме символического потребления. Причем этот вопрос становится предметом обсуждения ученных разных областей гуманитарного знания: социологов, политологов, культурологов и философов. С середины XX в. исследователей интересует сущность общества потребления, которое стало плодородной почвой для возникновения феномена символического потребления.
Под влиянием действия (или точнее бездействия) масс социальное умирает, и возникает потребность в новом типе теоретизирования окружающего мира. Попытка создать совершенно новую теорию об обществе становится главной целью Ж. Бодрийяра. Имеется в виду «антисоциальная теория» с принципиально новыми категориями. Французский философ сопоставляет свою общественную теорию с «патафизикой» – «наукой воображаемых решений» [1, с. 41], – утверждая, что это единственный способ отражения реальности, который остался сегодня человечеству.
При описании массового общества потребления Бодрийяр отмечает, что оно характеризуется подражательством, а мы живем в «век притворства». Эта эпоха характеризуется непрерывным процессом подражания, который приводит к созданию симулякров или «воспроизведений объектов или событий» [2]. Введенный Ж. Батаем термин «симулякр» служил для обозначения «метафизической симулируемой реальности» [3, с. 56].
В современных условиях различить знаки и реальность становится достаточно сложно. Это касается и политического, поскольку оно теперь является представлением, в котором отчетливо видны механизмы репрезентации. «От политического действия требуется, чтобы оно как можно лучше изображало стоящую за ней реальность, чтобы оно было прозрачным, чтобы оно было нравственным и соответствовало социальному идеалу правильной репрезентации» [4, с. 24]. То же самое происходит и с жизнью отдельного индивида. Это позволяет говорить французскому философу о «растворении телевидения в жизни, растворении жизни в телевидении» [5]. В конечном счете, именно изображения реального, имитации занимают господствующее положение. А человек попадает в плен этих симуляций, которые «образуют спиралевидную, круговую систему, не имеющую начала и конца» [6].
Ж. Бодрийяр характеризует этот мир как сверхреальность. Это проявляется во всем, что окружает человека. К примеру, СМИ уже не являются средством отражения действительности, они сами представляют собой действительность, приобретают свойства реальности. Новостные шоу, реалити-шоу, популяризированные сегодня на телевидении, вместе с «информационной мозаикой» служат примером этой ситуации, когда ложь и искажение фактов, преподносимых зрителям, выступают уже не просто реальностью, а сверхреальностью или гиперреальностью.
Когда реальная жизнь не приносит удовольствие, человеку приходится еще сильнее погружаться в культуру потребления. Самой известной моделью потребительского общества является американское общество, именно на эту модель ориентируются как европейские страны, так и Россия. Однако Америка, по характеристике Ж. Бодрийяра, превращается в «социальную пустыню» [7, с. 68], в которой моральные ценности отходят на второй план. Идея рассмотрения системы потребительских товаров сквозь призму кодов означивания была взята Бодрийяром у структуралистов, которые утверждали, что знаки осуществляют контроль как над предметами, так и над индивидами общества. Ввиду того, что предметы потребления являются частью знаковой системы, можно сказать, что индивид, потребляя предметы, использует и знаки. «Потребление – пишет Бодрийяр, – является систематическим актом манипуляции знаками, чтобы стать предметом потребления, предмет изначально должен стать знаком» [8, с. 52].
Обращая свое внимание на культуру, Ж. Бодрийяр отмечает, что она находится в состоянии массовой «катастрофической» [9] революции. Но особенность подобной революции состоит не в возрастающей мятежности (как это было у марксистов), а в увеличивающейся пассивности масс.
Такие условия являются благоприятной почвой для замены реальных человеческих взаимоотношений. Различая конкретную функцию вещи и ее незначительные свойства, необходимо заметить, что в первом случае вещь служит для разрешения некой практической задачи, а во втором ее понимании она становится способом урегулирования определенного социального или психологического конфликта. В условиях существования в обществе символического потребления индивид получает возможность для достаточного раскрепощения и осуществления самого себя: «система потребления идет дальше чистого потребления, давая выражение личности и коллективу, образуя новый язык, целую новую культуру» [10]. Это своего рода творческое выражение призвано дифференцировать социум, разграничивая относительно знаков-символов и каждого индивида.
Применение концепции французского мыслителя к анализу современного потребления предполагает сквозь призму категории «симулякр» обнаружение характерных для бытия современного человека образов и смыслов, выявляя в них долю воображаемого, и как оно влияет на реальное потребительское поведение индивида. Специфичность симулякра заключается в том, что сущее функционирует даже тогда, когда смысл его существования уже не обозрим.
Подлинный смысл представляемых симулякрами явлений с успехом переносится на современную действительность с помощью словесных и визуальных образов, имеющих характер императивных предписаний. И хотя эти образы обладают более глубокими культурными основами и существуют отдельно от симулякра, сегодня все чаще они смешиваются с симулятивной стороной культуры.
Переходным в некотором смысле звеном от реального объекта к симулякру выступает стереотип, клише или псевдовещь. Отсюда и складывается такое понимание, что основа классического искусства есть единство вещи и ее образа, а основа массовой культуры состоит в единстве псевдовещи и симулякра. Так, существовавшая в традиционном искусстве символическая функция вещи была заменена в современном искусстве, в частности в авангарде, автономизацией и распадом, превратившись в конечном счете, в постмодернистский симулякр – чистый образ вещи.
Таким образом, можно утверждать, что феномен симулякра играет немаловажную роль в современном информационном обществе в целом и в постмодернистской культуре в частности. Ж. Бодрийяр говорит о серьезном риске деградации, связывая эту возможность с распространением симулякров. Как один из важнейших теоретиков симулятивной концепции, он говорит о потенциальном истощении действительности, окутанной эстетикой и политикой симулякра. Здесь важно понимать, что симулякр это не вымысел или ложь, он появляется в процессе имитации реальности как продукт гиперреальности. Симулякр становится несоотносимым с реальностью напрямую, а только посредством соотнесения с другими симулякрами [11, с. 18].
В современном мире модели и симулякры никак не соотносятся с реальностью. В данном случае модель представляет собой более простое представление реальной вещи, выступающая не только в качестве некой имитации сущего, но и как реальная действительность, тогда как за симулякром реальности вовсе нет. Мир, в основании которого существует исключительно он сам, французский философ именует гиперреальностью, о которой уже упоминалось ранее: процесс симуляции способствует замене реальности знаками реального, что в итоге приводит к принципиально несоотносимым как с реальностью напрямую, так и с чем-либо другим, кроме аналогичных моделей-симулякров. Подобным образом перед индивидом и обществом в целом вырисовывается фундаментальное свойство симулякра, уже прошедшего четыре стадии своего становления и явившегося в виде чистого симулякра.
Симулякр как центральная категория и одновременно способ проявления символического потребления не может существовать без контекста. Таким контекстом выступает, в свою очередь «дискурс вещей», понятие введенное Ж. Бодрийяром еще в «Системе вещей». Дискурс вещей – это когда общество строит само себя при помощи вещей. И хотя, сам дискурс стал «изобретением» лингвистов, как процесс речевой деятельности, то дискурс вещей или «дискурс – вещь» – это уже «социоидеологическая система вещей и потребления» [12, с. 177] Ж. Бодрийяра.
Вышесказанное показывает, что с помощью симулякров символическое потребление выражает важнейшие образы и модели современности. Процесс потребления знаков и символов предлагает широкий спектр потребностей, идей, моделей поведения, что приобретает методологические свойства в контексте множества современных подходов к трактовке общества.
Ссылки:
-
1. Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. М., 2006.
-
2. Там же. С. 49.
-
3. Батай Ж. Внутренний опыт / пер. с фр., послесл. и коммент. С.Л. Фокина. СПб., 1997.
-
4. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург, 2000.
-
5. Там же. С. 46.
-
6. Там же. С. 81.
-
7. Бодрийяр Ж. Америка. СПб., 2000.
-
8. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структура / пер. с фр. Е. Самарской. М., 2006.
-
9. Там же. С. 197.
-
10. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства … С. 204.
-
11. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / пер. О.А. Печенкина. Тула, 2013.
-
12. Бодрийяр Ж. Система вещей / пер. с фр. С.Н. Зенкина. М., 2001. С. 177.