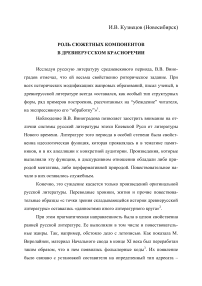Роль сюжетных компонентов в древнерусском красноречии
Автор: Кузнецов Илья Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Статья в выпуске: 2 (3), 2006 года.
Бесплатный доступ
Древнерусская литература, сюжетные компоненты, красноречие
Короткий адрес: https://sciup.org/14914006
IDR: 14914006
Текст статьи Роль сюжетных компонентов в древнерусском красноречии
Исследуя русскую литературу средневекового периода, В.В. Виноградов отмечал, что ей весьма свойственно риторическое задание. При всех исторических модификациях жанровых образований, писал ученый, в древнерусской литературе всегда «оставался, как особый тип структурных форм, ряд примеров построения, рассчитанных на “убеждение” читателя, на экспрессивную его “обработку”»1.
Наблюдение В.В. Виноградова позволяет заострить внимание на отличии системы русской литературы эпохи Киевской Руси от литературы Нового времени. Литературе того периода в особой степени была свойственна идеологическая функция, которая проявлялась и в тематике памятников, и в их апелляции к конкретной аудитории. Произведения, которые выполняли эту функцию, в дискурсивном отношении обладали либо природой ментатива, либо перформативной природой. Повествовательное начало в них оставалось служебным.
Конечно, это суждение касается только произведений оригинальной русской литературы. Переводные хроники, жития и прочие повествовательные образцы «с точки зрения складывающейся истории древнерусской литературы» оставались «данностями иного литературного круга»2.
При этом прагматическая направленность была в целом свойственна ранней русской литературе. Ее выполняли в том числе и повествовательные жанры. Так, например, обстояло дело с летописью. Как показала М. Виролайнен, материал Начального свода в конце XI века был переработан таким образом, что в нем появились фольклорные коды3. Их появление было связано с установкой составителя на определенный тип адресата – носителя национальной ментальности, со свойственными ей представлениями фольклорного характера.
Однако и в памятниках, относящихся к области красноречия, повествовательное начало сохранялось. Анализ таких показательных для ХI века произведений, как «Слово о Законе и Благодати» и поучения Феодосия Печерского, позволяет увидеть, что повествовательные элементы в них представлены двояко: 1) как сюжетные звенья; 2) как тематические мотивы.
Сюжетные последовательности наиболее актуальны в первой из трех композиционных частей «Слова о Законе и Благодати», где Русь идеологически уравнивается с другими христианскими народами. Эти последовательности образуют в тексте параллельные ряды. Так, фрагменты ветхозаветного сюжета об Агари и Сарре ставятся в параллель соответствующим фрагментам сюжета о Законе и Благодати. Изгнание Авраамом Агари дает автору Слова повод убеждать аудиторию в обоснованности рассеяния иудейства – носителя Закона – и призвания христианских народов, носителей Благодати. Таким образом, первая сюжетная линия выступает для второй в качестве развернутого иллюстрирующего «примера».
«Сарра не рожала, поскольку была бесплодна; и не бесплодна, но заключена была божьим промыслом на старости родить».
«И безвестная и тайная премудрость божья утаена была: ни ангелам, ни человекам не явима, но утаена, чтобы в начале века явиться».
В аналогичной функции сюжетные последовательности используются в поучениях Феодосия Печерского. Так, в «Слове о терпении, любви и посте» проповедник укоряет братию в том, что они нестойки в трудах монастырской жизни – и приводит им на память ветхозаветное сказание об исходе Моисея с народом из Египта и поклонении золотому тельцу. Здесь сюжетные элементы предстают в виде встроенных жанров – инкорпорированных в дискурсивное целое повествовательных фрагментов, обладаю- щих завершенностью и относительной самостоятельностью. Эти фрагменты, как и сюжетные последовательности «Слова о Законе и Благодати», выполняют функцию «примеров», иллюстрирующих мысль проповедника.
Встроенные жанры могут пониматься и просто как сюжеты. И.В. Силантьев применительно к древнерусской литературе использует понятие «сюжетики» как «системы сюжетов произведения». Введение этого понятия вызвано спецификой материала исследования: ведь «древнерусское литературное произведение могло включать не один, а несколько сюжетов, связанных фабульно или тематически. Это явление связано с одной существенной особенностью литературы Древней Руси – “принципом анфиладного построения” литературного произведения, как определял его Д.С. Ли-хачев»4.
Таким образом, использование в ораторской прозе сюжетных последовательностей создавало доказательность речи. Примеры, в качестве каковых выступают встроенные сюжеты, используются как образцы «риторического наведения»: «когда на основании многих подобных случаев выводится заключение относительно наличности какого-нибудь факта, то такое заключение там (в “Топике” – И.К. ) называется наведением, здесь – примером»5.
В древнерусском красноречии встречается и другая разновидность сюжетных элементов. И.Н. Жданов, рассматривая Слово Даниила Заточника, пришел к выводу, что в нем использованы два типа примеров, или «притч»: развернутый – как краткое повествовательное целое; и свернутый – как паремийное высказывание6. В наше время Е.К. Ромодановская противопоставила «притчу Акира» и «притчу Варлаама»7, разница которых заключается именно в степени развернутости. Первая разновидность примеров была показана выше. Второй тип тоже представлен в рассмотренных памятниках.
Так, «Слово» Феодосия апеллирует к апостолу Павлу, говорившему: «Нигде я напрасно хлеба не ел, но ночью трудился, а днем проповедовал», а также «руки мои послужили и мне и другим» и «праздный пусть не ест». Этот пример, в отличие от первой разновидности, представляет собой не сюжет, а отсылку к сюжету, каковой в своем развернутом виде содержится в Деяниях апостолов.
Вторая разновидность примеров в категориальном смысле промежуточна между такими явлениями, как сюжет и мотив. Е.М. Мелетинский писал о структурно-семантическом тождестве мотива и сюжета. Идея о сюжетообразующем потенциале мотива была развита Г.А. Левинтоном, который трактовал мотив как «сюжет инварианта», а собственно сюжет – как «сюжет варианта»8. Но в примере из «Слова» Феодосия сюжетообразующая функция явно отсутствует. Более того, высказывания апостола не только не тяготеют к разворачиванию, но наоборот, стремятся к формульной краткости, что видно в характере их последования: от предикативного целого – к афоризму.
Поэтому в данном случае стоит вести речь уже не о сюжетах, но скорее о «темах» и, далее по степени свернутости, о тематических мотивах. Последние мыслятся как тематические единства, обладающие устойчивым набором смысловых коннотаций. Они вовсе не тяготеют к разворачиванию. Повод говорить о них как о мотивах создается давней традицией употребления этого термина именно в значении словесной темы (у В. Шкловского, Б. Томашевского и других авторов соответствующего круга). И.В. Силантьев констатирует: «Наряду с фабулой и сюжетом, тема – наиболее близкая к мотиву категория»9.
Тематические мотивы составляют вторую рассматриваемую нами группу сюжетных элементов в ораторской прозе Киевской Руси. В плане генезиса они восходят к христианской и апокрифической книжности. Каждый из таких мотивов отсылает читателя или слушателя к определенному сюжету, который предполагается известным. Функционирование тематических мотивов наглядно проявляется там, где они связаны происхождением с апокрифами. Так, И.Н. Жданов указывал на связь упоминания в «Слове о Законе и Благодати» о бегстве Иисуса в Египет с соответствующим апокрифическим сказанием. Тот же автор, рассматривая соседний фрагмент («Бог соделал спасение посреди земли, крестом и мукою, на месте лобном…»), констатировал его связь с несколькими источниками: «а) с преданием о том, что Христос распят был “на древе, иже израсте из главы Адама”, как говорится в “Сказании о древе крестном”, и б) с сказанием о пупе земном, который находится в Иерусалиме, близ места погребения Спасителя. Сказание это было очень распространено на Руси: оно встречается и в Хождении игумена Даниила, и в Хождении гостя Василия… О пупе земном говорится в Беседе трех святителей и Голубиной книге»10.
Тематические мотивы могут восходить и к христианской литературе. Так, в рассмотренном «Слове» Феодосия Печерского фрагмент: «Можно распродать это миро и наделить убогих» в свернутом виде воспроизводит евангельский эпизод. Источником тематических мотивов может выступать и фольклор, но примеры такого рода относятся к более позднему периоду. В целом, функционально тематические мотивы выступают в роли референтных кодов11: они апеллируют к социокультурному опыту читателя или слушателя.
Такая апелляция сама по себе, конечно, не является целью насыщения текста тематическими мотивами. Эта цель станет яснее, если вернуться к уже звучавшей мысли о риторическом задании, которым была проникнута ранняя русская литература. По-видимому, в данном случае первостепенную роль играет прагматика литературного высказывания. Рассматриваемые мотивы организуют перцептивный фон: функционируя как коды, они создают «фасцинирующий» эффект и разворачивают текст в сторону определенной аудитории.
Итак, роль сюжетных компонентов (тематических мотивов и повествовательных фрагментов – элементарных жанров, таких, как сказание или притча) в древнерусском красноречии заключалась в том, что они функционировали как референтные коды, ориентированные на читателя. То есть сюжетные элементы выполняли в этой литературе прагматическую функцию. Уточним характер исполнения этой функции разными группами элементов.
Классической риторике было свойственно понятие о трех главных сторонах построения высказывания: «инвенции», или «изобретении», «диспозиции», или «расположении», и «элокуции», или «слоге». Как было показано выше, сюжетные фрагменты в древнерусском красноречии служили целям доказательства. Это могло быть логическое или псевдо-логическое, но внутренне связное доказательство. С риторической точки зрения, эти фрагменты должны быть отнесены к области inventio . Что же касается мотивов, то они создавали «слог», или elocutio , в смысле достаточно формальной организации внешней стороны текстового материала. При этом их роль была связана с тем, чтобы «фокусировать» целевую группу аудитории.
-
1 Виноградов В.В. О языке художественной прозы: Избранные труды. М., 1980. С. 115.
-
2 Топоров В.Н. Святые и святость в русской духовной культуре. Т. 1. М., 1995. С. 262.
-
3 См.: Виролайнен М.Н. Автор текста истории // Виролайнен М.Н. Речь и молчание: Сюжеты и мифы русской словесности. СПб., 2003. С. 84–108.
-
4 Силантьев И.В. Сюжет как фактор жанрообразования в средневековой русской литературе. Новосибирск, 1996. С. 9; См. также: Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 253.
-
5 Аристотель. Риторика // Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб., 2000. С. 92.
-
6 См.: Сочинения И.Н. Жданова. Т. 1. СПб., 1904.
-
7 См.: Ромодановская Е.К. Повести о гордом царе в рукописной традиции XVII–XIX вв. Новосибирск, 1985. С. 48.
-
8 См.: Левинтон Г.А. К проблеме изучения повествовательного фольклора // Типологические исследования по фольклору: Сб. статей в память В.Я. Проппа. М., 1975. С. 303– 319.
-
9 Силантьев И.В. Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике: Очерк историографии. Новосибирск, 1999. С. 58.
-
10 Сочинения И.Н. Жданова. Т. 1. СПб., 1904. С. 13–14.
-
11 См.: Барт Р. S/Z. М., 2000.
Список литературы Роль сюжетных компонентов в древнерусском красноречии
- Виноградов В.В. О языке художественной прозы: Избранные труды. М., 1980. С. 115.
- Топоров В.Н. Святые и святость в русской духовной культуре. Т. 1. М., 1995. С. 262.
- Виролайнен М.Н. Автор текста истории//Виролайнен М.Н. Речь и молчание: Сюжеты и мифы русской словесности. СПб., 2003. С. 84-108.
- Силантьев И.В. Сюжет как фактор жанрообразования в средневековой русской литературе. Новосибирск, 1996. С. 9.
- Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 253.
- Аристотель. Риторика//Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб., 2000. С. 92.
- Сочинения И.Н. Жданова. Т. 1. СПб., 1904.
- Ромодановская Е.К. Повести о гордом царе в рукописной традиции XVII-XIX вв. Новосибирск, 1985. С. 48.
- Левинтон Г.А. К проблеме изучения повествовательного фольклора//Типологические исследования по фольклору: Сб. статей в память В.Я. Проппа. М., 1975. С. 303-319.
- Силантьев И.В. Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике: Очерк историографии. Новосибирск, 1999. С. 58.
- Сочинения И.Н. Жданова. Т. 1. СПб., 1904. С. 13-14.
- Барт Р. S/Z. М., 2000.