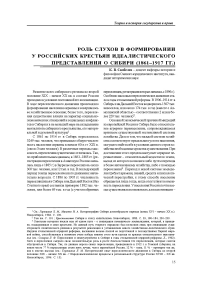Роль слухов в формировании у российских крестьян идеалистического представления о Сибири (1861-1917 гг.)
Автор: Скобелев К.В.
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Теория и история государства и права
Статья в выпуске: 2 (11), 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14317205
IDR: 14317205
Текст статьи Роль слухов в формировании у российских крестьян идеалистического представления о Сибири (1861-1917 гг.)
Развитие всего сибирского региона во второй половине XIX - начале XX вв. в составе России проходило в условиях постоянной его колонизации. В ходе переселенческого движения происходило формирование населения окраины и совершалось ее хозяйственное освоение; более того, переселения существенно влияли на характер социальноэкономических отношений и социальных конфликтов в Сибири и в не меньшей мере на складывание менталитета сибирского крестьянства, его материальной и духовной культуры1.
С 1861 по 1914 гг в Сибирь переселилось 3249 тыс. человек, что превышало общую численность населения окраины в начале 60-х гг XIX в. (около 3 млн.человек). В различные периоды массовость переселения существенно отличалась. Так, по приблизительным данным, в 1861-1885 гг. (регистрация переселения в Азиатскую Россию началась лишь с 1885 г.) в Зауралье переселилось около 300 тыс. человек, или 12 тыс. в год. В последующий период темпы переселенческого движения значительно возросли. С 1886 по 1905 гг численность переселившихся в Сибирь и на Дальний Восток (без Степного края) составила примерно 1382 тыс. человек, или более 69 тыс. в год (с учетом обратных переселенцев, регистрация которых началась с 1896г). Особенно массовым переселенческое движение стало в годы столыпинской реформы. В 1906-1914 гг.в Сибирь и на Дальний Восток водворилось 1567 тыс. новоселов, или около 174 тыс. в год (вместе с Акмолинской областью - соответственно 2 млн и более 220 тыс. человек)2.
Основной экономической причиной миграций ив европейской России в Сибирь было относительное аграрное перенаселение, сопровождавшееся кризисом существующей экстенсивной системы хозяйства. Дело в том, что каждой системе хозяйства соответствует предельная густота населения, могущего найти себе в условиях данного строя хозяйства необходимые средства существования. При достижении этого предела наступает аграрное перенаселение - относительный недостаток земли, выход из которого возможен либо путем перехода к более интенсивному хозяйству, либо с помощью переселения3 . Переход к новой системе земледелия требует времени, знаний, средств и психологической перестройки, к этому способу население обращается лишь тогда, когда отсутствует возможность переселения. У населения России почти всегда существовала возможность для колонизации -
-
1 См.: Горюшкин Л. М., Миненко Н. А. Историография Сибири дооктябрьского периода (конец XVI - начало XX в.). Новосибирск, 1984. С. 100.
-
2 Там же. С. 101 ; Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. Новосибирск, 1983. С. 39, 180-184, 230-239.
-
3 Советские историки писали еще об одном пути - о ликвидации помещичьего землевладения, который, в принципе, поддерживали и сами крестьяне. Но данный путь «черного передела» был возможен лишь при ликвидации существующего политического режима в результате революции и установления нового хозяйственно-политического строя. Неудача столыпинской аграрной реформы, вызванная весьма плохой ее подготовкой и последствиями Первой мировой войны, способствовала в конечном счете победе именно этого пути выхода из кризиса относительного малоземелья (см.: Скляров Л. Ф. Переселение и землеустройство в Сибири в годы столыпинской аграрной реформы. Л., 1962). Хотя и переселение сыграло свою положительную роль в росте благосостояния тех переселенцев, которые смогли обустроиться в Сибири. Так, по данным опроса самих переселенцев, проведенного в 1912 г. в Томской губернии, на новом месте 77 % переселенцев стали жить лучше, чем в европейской России, 12 % - хуже, 11 % - примерно так же, как в местах выхода (см.: Горюшкин Л. М. Исторический опыт переселенческого движения в Сибирь во второй половине XIX - начале XX вв. // Народонаселенческие процессы в региональной структуре России XVIII - XX вв. Новосибирск, 1996. С. 13).
вот почему оно чаще всего обращалось именно к переселению, а не к интенсификации земледелия4.
Если мы посмотрим на ход переселенческого движения по разным губерниям России, то увидим его крайнюю неравномерность:
«1885 г.- больше всего переселенцев в Сибирь из Вятской и Пермской губерний;
1886-1890 г.- 1 -е место занимает Курская губ.;
1891 г. - Тамбовская;
1892 г.- Воронежская, на сцене появляется Полтавская губерния, давшая, вместо 124 душ в 1891 г., в 1892 г.-8107;
в следующие два года количество переселенцев из Полтавской губ. растет, и в 1894 г.она занимает 1-е место;
1895 г.- из Пермской выселилось 20 448 человек, из Полтавской 16 635, и в этом году она заняла уже 2-е место»5 .
Именно в подобного рода фактах и проявляется роль субъективного фактора, когда переселения принимают стихийный, почти эпидемический характер, когда с места снимаются сотни и тысячи семей, для которых переселение, в сущности, не вызывается никакой разумной необходимостью и сознательным расчетом6. Действительно, исследуя причины выселения рязанских крестьян из целых районов Рязанской губ., В. Н. Григорьев пришел к выводу, что они находятся в весьма малой зависимости от их земельных условий и достатка их насе-ления7 . Вот здесь-то и играли большую роль различные слухи и толки о Сибири, создавая мотив для переселения8.
Опрос И. А. Гурвичем в 80-х гг. XIX в. 763 семей переселенцев показал, что 518 (68 %) семей отправлялись в Сибирь по письмам родственни- ков или соседей; 148 (19 %) - по сведениям ходоков; 103 (13 %) - по слухам, т. е. 81 % опрошенных решились на переселение, располагая весьма сомнительными источниками информации9. По данным А. Омельченко, в 1896 г из 28 631 семей в Сибирь за ходоками пришла 9181 семья, по слухам -11 957, по письмам- 749310. За 1906-1914 гг в Сибирь пришли 3 040 333 переселенца, а ходоков -731 827 (что составляет 24 % от количества пересе-ленцев)11 . Таким образом, рационализации крестьянского переселения не произошло и во время столыпинской реформы, крестьяне по-прежнему ориентировались на слухи и письма родственников, которые весьма мало от них отличались.
Слухи - это особая, обычно недостоверная, эмоционально окрашенная информация (и/или искажающая форма передачи любой информации, придающая ей некоторую особенность), передающаяся исключительно в устной форме, как бы «по секрету», и функционирующая только в звуковой форме12. Особенность слуха в том, что он, с одной стороны, искажает информацию, с другой - компенсирует дефицит достоверности, стимулируя сильное эмоциональное отношение13.
Как отмечаетД. В. Ольшанский, для появления слухов должны выполняться три условия:
-
1 ) наличие интереса массовой аудитории к определенной проблеме, высокая актуальность данной проблемы и ее связь с жизненными потребностями людей;
-
2 ) неудовлетворенность соответствующих потребностей;
-
3 ) отсутствие полной и достоверной информации по какому-либо интересующему людей вопросу14.
Все эти условия были налицо в русской деревне. Действительно, крестьяне, испытывая огром-
-
4 См.: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII - начало XX в.). СПб., 2000. Т. 1. С. 27. Когда самих переселенцев спрашивали, отчего они переселяются, то они отвечали следующим образом: «тесно стало», «надела мало», «земная теснота», «дома телку привязать негде было», «иди куд а хочешь, а дома, видимое дело, деваться некуда», «нечем стало жить», «прокормиться нельзя было», «есть хочется», «нам хоть хлеба наесться», «доживешься до того, что нечего станет есть, - вот и идешь на сторону», «на родине совсем житья не стало, все равно помирать надо», «жить невмоготу стало», «жить никак нельзя», «хуже не будет» и т. д. (см.: Качаровский К. Крестьянское хозяйство и переселение // Русская мысль. 1894. № 6. С. 71).
-
5 Омельченко А. В Сибирь за землей и счастьем // Мир Божий. 1900. № 8. С. 5.
-
6 См.: Кауфман А. А. Переселение и колонизация. СПб., 1905. С. 188-190.
-
7 См.: Григорьев В. Н. Переселение крестьян Рязанской губернии // Русская мысль. 1884. № 3. С. 15.
-
8В данном вопросе нельзя согласиться с М. К. Чуркиным, который считает, что «не последнюю роль в отрыве крестьянской массы от «родного пепелища» сыграли мифологемы, порожденные исторической памятью крестьянства» (Чуркин М. К. Взаимоотношения переселенцев и старожилов Западной Сибири в конце XIX - начале XX вв. в природногеографическом, социально-психологическом, этнопсихологическом аспектах : дис.... канд. истор. наук. Омск, 2000. С. 113). Такого просто не могло быть, т. к. русские раньше не жили в Сибири, а следовательно, их представления о данном регионе не являются принадлежностью их исторической памяти, а сформированы посредством слухов.
-
9 См.: Чуркин М. К. К вопросу о причинах и последствиях обратных переселений в конце XIX - начале XX вв. // Проблемы социальной и экономической истории Сибири XIX - начала XX вв. Омск, 2001. С. 36-37.
-
10 См.: Омельченко А. В. Сибирь за землей и счастьем. С. 7.
-
11 См.: Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. С. 231. Табл. 12.
-
12 См.: Ольшанский Д. В. Психология масс. СПб., 2001. С. 275.
-
13 Там же. С. 276.
-
14 Там же. С. 279-282.
ную нужду в земле, не имея капитала и не обладая современными ему научными агрономическими познаниями, необходимыми для интенсификации производства, были вынуждены искать выход из своего бедственного положения в переселении. Но, чтобы решиться на переселение, крестьянин должен был иметь представление о том, что оно ему даст. Точных сведений при повальной безграмотности ему неоткуда было взять, поэтому он и действовал на основе непроверенных, чаще неверных, нередко и неправдоподобных слухов15 .
Крестьянский менталитет функционировал в рамках традиционной культуры русского народа. Система же коммуникаций в традиционной культуре основана на передаче информации посредством речи, что всегда предполагает непосредственный человеческий контакт16. В процессе же устной циркуляции любая, даже самая достоверная информация постепенно теряет степень своей достоверности (тождественности оригиналу) и рано или поздно превращается в слухи17.
Поэтому слухи выражают массовые крестьянские представления, а также служат эффективным каналом формирования общественного мнения и массовых настроений, а следовательно, и управления ими18. Крестьянство не могло прожить без слухов, т. к. слухи удовлетворяли их жизненно важную потребность в информации, которую они не могли почерпнуть из официальных источников в силу своей неграмотности или недоверия к чиновничеству и интеллигенции. По мнению В. А. Бердинс-ких, «люди были доверчивы не потому, что наивны, а потому, что их личный жизненный опыт не подтверждал, но и не опровергал самых диковинных, фантастических историй, случавшихся во внешнем мире. Вера, доверчивость, детскость восприятия этих людей поразительны»19.
Слухи, дающие мотив к переселению, можно по их содержанию подразделить на две категории. Во-первых, это слухи о самой Сибири, во-вторых-о государственных пособиях переселенцам.
Как замечают исследователи, особенно много слухов бродило по деревням в зимнюю пору, когда там нечего было делать. Рассказы о Сибири были примерно следующего содержания: «В этих краях и земли всякой много, и покосов, и лесов захваты- вай, сколько хочешь; и земля чудесная: только поковыряй да потреси зерно - и собирай обильные урожаи... Птицы всякой столько, что палкой можно побить, сколько угодно... Рыбу в реках и озерах можно лукошками черпать... На телеге нельзя по траве проехать без того, чтобы колеса не окрасились всякой полевой ягодой... А главное - получишь там все готовое: и дом, и скотину, и хлеб на семена и продовольствие - всего мол, запасла казна про дорогих гостей - переселенцев... »20
Нигде данная информация не объявлялась, не печаталась, но все про это знали, к тому же утверждали, что слышали от верного человека. Такими верными людьми являлись возвратившиеся неудачные переселенцы, богомолки, прохожие солдаты, проезжие купцы или даже бродяги, которые на ночлеге или в кабаке сочиняли за угощение много небылиц про Сибирь, даже не бывав там. И слушатели верили этой информации, т. к. хотели верить в то, что как бы хорошо им было без работы, без заботы или, по крайней мере, при легкой, льготной работе жить на приволе, на сытных хлебах. Потом сами слушатели пересказывали слухи другим, приукрасив их своими вымыслами. Так и распространялись разные небылицы про Сибирь по России21.
Вот что рассказали В. Н. Григорьеву крестьяне сельца Пителина (Крючковской вол., Раненбургс-кого уезда, Рязанской губ.) о влиянии слухов на миграцию в новые земли: «Года три назад (около 1878 г.) пошли слухи про новую самару-сибирскую; слухи эти шли из Чечор, Кривополянья, Каликина (все селении бывших государственных крестьян Ра-ненбургского уезда, а Каликино - Тамбовской губ.); говорили, будто люди в Сибирь идут и что там С а мара не хуже той, что у нас была. Дальше да больше. Пошли слухи со всех сторон; разно говорили, а все чаще - хвалили сибирскую сторону, говорили, что стоит идти туда. Бывало, на базаре один дем-кинский мужик как начнет про сибирскую самару рассказывать (он нарочно ходил туда, а потом с семьей в Бийский уезд выписался), так вокруг него толпа на полверсты стоил; сам-то он высокий, здоровый, выше всей толпы, да еще на телегу взберется и кричит, что есть мочи, - самару расписывает... Думали, думали - и стали наших 13 семей сбираться в Томскую губернию»22.
-
15 См.: Кауфман А. А. Переселение и колонизация. С. 189-190 ; Шевцов С. П. Сибирь, кто в ней живет и как живет. Беседы о вольных сибирских землях. СПб., 1909. С. 5.
-
16 О способах функционирования традиционной культуры см.: Добровольский К. Традиционная крестьянская куль-тур:а// Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. М., 1992. С. 195-198.
-
17 См.: Ольшанский Д. В. Психология масс. С. 276.
-
18 Там же. С. 275.
-
19 Бердинских В. А. Крестьянская цивилизация в России. М., 2001. С. 63.
-
20 Сведения о Сибири // Сельский вестник : сб. статей о Сибири и переселении. СПб., 1897. С. XI.
-
21 Там же. С. XI-XII.
72 Григорьев В. Н. Переселение крестьян ... № 1. С. 14.
Низкая обеспеченность переселенцев денежными средствами способствовала распространению среди них слухов второй категории - о государственной помощи и пособиях переселенцам.
Иногда рождались даже целые легенды о новых местах. Так, крестьяне Токмана Семиреченс-кой области задумали в 1888 г ввиду некоторого земельного стеснения переселиться на лучшие места, и среди них сложилась целая легенда о «новых островах». Они узнали, что есть где-то на свете «новые острова», что до них нужно плыть, может быть, шесть тысяч верст, что острова эти не что иное, как шестая часть нашей империи и находятся они около низацыи, а низацыя будет либо королевство, либо губерния какая, но только царь в этой низацыи добрый и хочет он принять православную веру, да министры его не соглашаются; на островах климат теплый, водится на них всякая всячина и проч. К тому же казна дает пособие желающему переселиться на острова, по 300 руб. Эта фантазия так глубоко засела в головах крестьян, что они по чьему-то совету решили отправить телеграмму в Петербург в сенат и для этой цели собрали по 20 коп. с каждого двора, желающего выселиться. Уполномоченные отправились за 60 верст в Пиш-нек для подачи телеграммы, но в том виде, в каком она была составлена, ее не приняли. Крестьяне обиделись: «Ты что, животы наши жалеешь, не хочешь стучать, так мы найдем другое место, откуда будем разговаривать с Питером, тебе же тоща достанется». И хотели отправиться на другую станцию, но кто-то посоветовал им подать телеграмму на имя министра. Недолго думая, составили новую и подали: ждут ответа день, ждут другой, но его все нет и нет. Крестьяне не унывают, посылают справку, дошла ли телеграмма по назначению, но и справка остается без ответа. У подателей явилось подозрение на ближайшее начальство; и чем больше проходило времени, тем крепче росла вера в существование новых благодатных островов и доброго царя низацыи. «Есть новые острова, в «положении» (т. е. в манифесте 19 февраля 1861 г.) об них не даром прописано, а «положение» это читали в волости и все слышали», да только чиновники скрывают это от нас. И крестьяне решили отправиться в Аулиэата и оттуда разговаривать с Петербургом, а если и тут не удастся, пойдут из Ташкента попытать счастья и, наконец, отправятся даже в Москву «до самого, что ни на есть, наибольшего начальства», и доподлинно - верно узнают про «новые острова!»23 К сожалению, нам неизвестно, чем закончилась вся эта история.
Все эти примеры раскрывают перед нами логику крестьянского мышления, когда крестьяне с доверием относились к той информации, которая исходила от людей их социального статуса, а потому и доверие к информации зависело от доверия к ее источнику. Никакого анализа полученных сведений не проводилось. Крестьянин не был способен на критическое осмысление услышанною, он, как ребенок, верил всему, что ему рассказывали бывалые люди.
Большое значение в распространении слухов играл и тот момент, что они, как правило, рассказывались толпе крестьян. А в толпе, как известно, действуют особые психологические факторы, отличные от индивидуального общения. В частности, для толпы характерна особая податливость внушению, поскольку, как бы она ни была нейтральна, она всегда находится в состоянии выжидательного внимания, которое облегчает суггестию. К тому же толпа очень заразительна, что создает особый настрой, которым заражаются все члены данной общности. При эмоциональном возбуждении у людей снижается критический порог восприятия ими информации, что позволяет суггестору влиять на подсознание толпы, которая становится легко подверженной внушению и легковерной24. Вот как описывает процесс суггестии и заражения в одной из захолустных российских деревень С. Каронин: «Дальше Ершову незачем было доказывать неизбежность переселения. Напротив, он должен был охлаждать волнение, охватившее всю сходку. Глаза у всех лихорадочно горели; лица были взволнованны и безумные; каждый принялся говорить, не слушая другого; началось смятение, гвалт»25.
Кроме информационной функции, слухи играли также важную мотивационно-колонизационную функцию. Вообще, без слухов о Сибири была бы невозможна никакая колонизация этого региона. Исследование В. Н. Григорьева показало, что крестьяне шли на переселение только в том случае, если имелась какая-либо информация о месте вселения. Так, в середине 80-х гг.XIX в. в Рязанской губернии были целые две волости бывших помещичьих крес-тьянДанковского и Раненбургского уездов, куда слух о новых землях начинал только проникать, и поэтому на «самару» не вышло ни одного семейства26.
Играя колонизационную функцию, слухи формировали определенный ментальный настрой у
23 См.: Из провинциальной печати // Северный вестник. 1888. № 11. С. 198-199.
24 См.: Чуркин М. К. Взаимоотношения переселенцев ... С. 115 ; Ольшанский Д. В. Психология масс. С. 70-88.
25 Каронин С. [Петропавловский Н. Е.] Повесть, рассказы, очерки. Саратов, 1988. С. 175-176.
26 См.: Григорьев В. Н. Переселение крестьян ... № 1. С. 14 ; № 3. С. 20.
мигрантов по отношению к местам вселения. А. А. Кауфман определяет его как чрезвычайную требовательность, которая была свойственна переселенцам, уже обжившимся в Сибири. «Быстро (благодаря, главным образом, выгодно отличающим переселенцев чертам - бережливости и запасливости) догнав и даже часто перегнав сибиряков в благосостоянии, достигнув такой высокой зажиточности, какая ему в «в Рассее» и не снилась, переселенец, однако, недоволен; и, как только «целины повыпашутся» или какие-нибудь заморозки поведут к ряду плохих урожаев, он решает, что «нельзя здесь жить», и в то время, когда коренной сибиряк довольствуется и уменьшившеюся производительностью земли, он уходит куда-нибудь подальше, где рассчитывает опять найти «целые земли», где не бывает заморозков, где в хлебе не заводится головня ит. п.»27.
Итак, субъективный фактор играл важную роль при принятии крестьянами решения о переселении в Сибирь. Причем, если объективная причина -малоземелье - подталкивала крестьян к поиску выхода из тупиковой ситуации, сложившейся в центре страны, то традиционный крестьянский менталитет предполагал два пути выхода из аграрного кризиса: ликвидацию помещичьего землевладения или переселение на вольные земли. Это свидетельствует о том, что большая часть российского крестьянства психологически не была готова перестраивать свое хозяйство на капиталистические рельсы, а стремилась всеми силами сохранить свое потребительское семейное мелкотоварное произ- водство. Широкое же распространение в российской деревне слухов о благодатных сибирских земляк формировало среди русского крестьянства благоприятное мифическое представление о Сибири, которое служило мощным психологическим стимулом к миграции крестьян. Переселившись в Сибирь, довольно значительная часть российского крестьянства разочаровывалась в местных условиях и уезжала обратно на родину, но большинство все же оставалось. Именно эти люди, бросившие свою отчизну в поисках лучшей доли, с течением времени вливались в сибирское общество, влияя, таким образом, на формирование менталитета сибирского крестьянства.
На протяжении всего исследуемого периода крестьяне оставались восприимчивыми к разного рода слухам, которые распространяли лица их социального статуса, при этом недоверчиво относились к информации, исходившей от чиновников и интеллигенции. Крестьяне слышали и воспринимали, как правило, только ту информацию, которую они хотели услышать. Критическое мышление у них находилось в зачаточном состоянии, что служило хорошим условием эксплуатации крестьянской доверчивости разного рода проходимцами, а с другой стороны, мешало государству проводить свою переселенческую политику по принципу гласности, так как любое законоположение крестьяне истолковывали в свою пользу. Изменить положение в данном вопросе способно было только введение всеобщего школьного образования, что произошло лишь в советское время.
27 Кауфман А. А. Переселение и колонизация. С. 46-4 7. Описание искаженного взгляда обратных переселенцев на природно-хозяйственные условия Сибири см.: Сведения о Сибири ... С. XVIII-XXV.
Список литературы Роль слухов в формировании у российских крестьян идеалистического представления о Сибири (1861-1917 гг.)
- Горюшкин Л. М., Миненко Н. А. Историография Сибири дооктябрьского периода (конец XVI -начало XX в.). Новосибирск, 1984. С. 100.
- Горюшкин Л. М. Исторический опыт переселенческого движения в Сибирь во второй половине XIX -начале XX вв.//Народонаселенческие процессы в региональной структуре России XVIII -XX вв. Новосибирск, 1996. С. 13.
- Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII -начало XX в.). СПб., 2000. Т. 1. С. 27.
- Качаровский К. Крестьянское хозяйство и переселение//Русская мысль. 1894. № 6. С. 71.
- Омельченко А. В Сибирь за землей и счастьем//Мир Божий. 1900. № 8. С. 5.
- Кауфман А. А. Переселение и колонизация. СПб., 1905. С. 188-190.
- Григорьев В. Н. Переселение крестьян Рязанской губернии//Русская мысль. 1884. № 3. С. 15.
- Чуркин М. К. Взаимоотношения переселенцев и старожилов Западной Сибири в конце XIX -начале XX вв. в природно-географическом, социально-психологическом, этнопсихологическом аспектах: дис. … канд. истор. наук. Омск, 2000. С. 113.
- Чуркин М. К. К вопросу о причинах и последствиях обратных переселений в конце XIX -начале XX вв.//Проблемы социальной и экономической истории Сибири XIX -начала XX вв. Омск, 2001. С. 36-37.
- Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. С. 231.
- Ольшанский Д. В. Психология масс. СПб., 2001. С. 275.
- Швецов С. П. Сибирь, кто в ней живет и как живет. Беседы о вольных сибирских землях. СПб., 1909. С. 5.
- Добровольский К. Традиционная крестьянская культура//Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. М., 1992. С. 195-198.
- Бердинских В. А. Крестьянская цивилизация в России. М., 2001. С. 63.
- Сведения о Сибири//Сельский вестник: сб. статей о Сибири и переселении. СПб., 1897. С. XI.
- Из провинциальной печати//Северный вестник. 1888. № 11. С. 198-199.
- Каронин С. [Петропавловский Н. Е.] Повесть, рассказы, очерки. Саратов, 1988. С. 175-176.