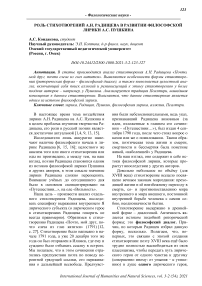Роль стихотворений А.Н. Радищева в развитии философской лирики А.С. Пушкина
Автор: Кондакова А.С.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3-2 (54), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье производится анализ стихотворения А.Н. Радищева «Почто, мой друг, почто слеза из глаз катится». Выявляются особенности формы стихотворения (риторическая форма - философский диалог), а также выполняется целостный анализ, включающий себя поиск аллюзий и реминисценций к этому стихотворению у более поздних авторов - например, у Пушкина. Анализируется традиция Псалтири, нашедшая воплощение в данном стихотворении. Выясняется, что данное стихотворение является одним из истоков философской лирики.
Лирика, радищев, пушкин, философская лирика, аллюзия, псалтири
Короткий адрес: https://sciup.org/170190932
IDR: 170190932 | DOI: 10.24412/2500-1000-2021-3-2-123-127
Текст научной статьи Роль стихотворений А.Н. Радищева в развитии философской лирики А.С. Пушкина
В настоящее время тема воздействия лирики А.Н. Радищева на А.С. Пушкина и в целом проблема изучения творчества Радищева, его роли в русской поэзии является достаточно актуальной [1,4, 9, 13, 15].
Исследователи лишь аккуратно намечают наличие философского начала в лирике Радищева [6, 15, 16]; целостного же анализа того или иного стихотворения или оды не произведено, а между тем, на наш взгляд, поэзия Радищева становится одним из истоков философской лирики Пушкина и других авторов, в этом смысле значение лирики Радищева сложно переоценить. Внимание учёных до сегодняшнего дня было в основном сконцентрировано на «Путешествии...», на оде «Вольность».
Наша цель – произвести анализ отдельного стихотворения Радищева, исследовать специфику выражения внутреннего Я лирического субъекта (о лирическом герое в стихотворениях Радищева говорить не всегда правомерно). Обратимся к стихотворению Радищева «Почто, мой друг, почто слеза из глаз катится» (1791) [12, с. 27]. Стихотворение было написано в начале 1791 года, а уже 20 декабря того же года он был отправлен в Илимск, где ему и суждено было отбывать ссылку в остроге. Мы полагаем, что в этом сочинении отразились предчувствия поэта по поводу вероятной грядущей ссылки, его переживания о дальнейшей несвободе. Предчувст- вия были небезосновательными, ведь указ, признававший Радищева виновным (за идеи, изложенные в главном его сочинении – «Путешествии…»), был издан 4 сентября 1790 года, после чего стоял вопрос о казни или же о помиловании. Таким образом, поэтическая тема жизни и смерти, смертности и бессмертия была поистине живой, «наболевшей» у Радищева.
На наш взгляд, оно содержит в себе истоки философской лирики, которые прорастут впоследствии у других авторов.
Довольно небольшое по объёму (для XVIII века) стихотворение всецело посвящено вечным законам мироздания: преходящей жизни и её неизбежному переходу в смерть, со- и противопоставлению мира внутреннего и мира внешнего, постоянной внутренней борьбе человека с самим собою, неоднозначности бытия.
Стихотворение выдержано в древнейшей форме – диалоговой. Античность является истоком подобной риторической формы; это философский диалог. Причин, по которым Радищев избрал данную форму, несколько. Полагаем, что, во-первых, это связано с эпохой создания стихотворения: поэту XVIII века ещё было трудно полностью высвободиться из оков классицизма, чтобы передать путь лирического героя от одного чувства к другому (совершенно иному: от уныния – к утешению) в душе одного лирического героя, поэтому Радищев «разделил» противоборствующие между собой и одновременно дополняющие друг друга чувства и мысли разных лирических «я». В то же время движение мысли могло бы претендовать на слитность и нерасчленённость – то есть на принадлежность лишь одному лирическому субъекту.
Во-вторых, при выборе подобной риторической формы Радищев мог сознательно или неосознанно руководствоваться принципом объективации. Именно через диалог можно приблизиться к пониманию глубинного человеческого Я. Так, М.М. Бахтин пишет о том, что «…овладеть внутренним человеком, увидеть и понять его нельзя, делая его объектом безучастного нейтрального анализа, нельзя овладеть им и путём слияния с ним, вчувствованием в него. Нет, к нему можно подойти и его можно раскрыть – точнее, заставить его самого раскрыться – лишь путём общения с ним, диалогически» [3, с. 293].
В-третьих, это выбор формы может быть объяснён и стремлением автора к драматизации – в качестве придания некоей схожести с драматургическим произведением, для того чтобы понять и услышать разнообразные точки зрения в их разнообразии
В-четвёртых, диалоговая форма словно бы «подталкивает» лирического героя к исповедальности, откровенности, выходу на самые сокровенные для сердца темы – и даже к молитвенности. Так, Л.М. Баткин, рассуждая об «Исповеди» блаженного Августина, замечает, что все «мысленные диалоги» являются производными от диалога с Богом: « ″ Я ″ осознаётся и обретает пластику, форму, глубину через божественное ″ Ты ″ » [2, с. 63]. Таким образом, форма диалога способствует более полному постижению самосознания лирического Я. Данное стихотворение, по сути, является диалогом с Богом.
Опорой для приведённого стихотворения во многом служит традиция Псалтири. Для авторов XVIII века обращение к текстам Псалмов не является чем-то уникальным, тем не менее данное стихотворение не есть переложение того или иного псалма, однако в нём есть некоторые аллюзив-ные сближения с Псалтирью. Так, например, Псалом 6 начинается плачем Давида: «И душа моя в сильном смятенье <…> Изнемог я от воздыханий моих, омываю плачем всякую ночь ложе мое, слезами моими постель мою орошаю» [Пс. 6: 7]. Но заканчивается псалом утешением: «Услышал Господь моление мое, Господь принял молитву мою» [Пс. 6: 10]. Похожий переход от чувства смятения к чувству покоя переживает и лирический субъект Радищева. Финальные строки у Радищева, в которых герой обретает надежду и покой («Мужайся и будь тверд, с тобой пребуду я») отсылают к Псалму 26: «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа» [Пс. 26: 14]. Так, финальные строки стихотворения Радищева являются, по сути, молитвенным предстоянием перед Богом.
Ключевым и для псалма, и для стихотворения является образ сердца. Именно от любящего сердца и зависит понимание человеком сути Божьего мира: в цитируемых строках псалма речь идёт об укреплении сердца, а в стихотворении Радищева есть подобные строки:
Престань стенать. Кто мог всесильною рукою
И сердце любяще, и душу нежну дать,
К утехам может тот тебя опять воззвать [12, с. 28].
Разумеется, что слово «утехи» здесь понимается как «утешение, радость».
Третья, ответная строфа-реплика, начавшаяся со слова «вспомни», отчасти послужила аллюзией к философской лирике, например, к стихотворению А. С. Пушкина « Воспоминание» (1828) [10, т. 2, с. 206]. Можно даже утверждать, что Пушкин прибегает к намеренной аллюзии к радищевскому стихотворению в целом (не только к 3 строфе). Ср.:
-
У Радищева:
Почто, мой друг, почто слеза из глаз катится
Змия раскаянья преступно сердце гложет [12, с. 27].
-
У Пушкина:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья.
И горько жалуюсь, и горько слёзы лью [10, т. 2, с. 206].
В обоих стихотворениях лирический герой остаётся наедине со своим прошлым, со своею совестью; прошлое читается им как книга, как «свиток». Вот что говорит Е.А. Маймин о стихотворении А.С. Пушкина, сближая его произведения с творениями поэтов-любомудров: «"Воспоминание" при всей недоговоренности – это исповедь, человеческий документ, это не просто мысль, а жизнь мысли и мука мысли» [8, c. 348]. Мы считаем, что стихотворение Радищева тоже представляет собой исповедь, рассказывающую о прошлом лирического субъекта, его заблуждениях и ошибках, пути к утешению. Но если в стихотворении Радищева есть образ собеседника, то у Пушкина размышления синтезированы, принадлежат единому лицу.
Кроме того, существенным для анализа становится и хронотоп: у Пушкина это ‒ ночной хронотоп, именно он содействует рождению размышлений у лирического героя. У Радищева хронотоп не определен прямо, однако ближе к концу произведения возникает образ денницы (утренней зари), следственно, ей предшествовала ночь.
Последующая строфа Радищева содержит мысль о необходимости духовной жизни в каждом человеке – для того чтобы все земные блага не обратились во зло. Неопытная душа лирического героя в прошлом впервые заметила глубокую противоречивость и неоднозначность происходящего: «В одежде дружества злодеи предстояли», «и добродетели порочный вид придать». Именно духовность становится для лирического героя компасом и ключом к сохранению самого себя: «Душа моя во мне, я тот же, что я был». Утешителем для лирического героя становится Бог: «Кто мог всесильною рукою // И сердце любяще, и душу нежну дать, // к утехам может тот тебя опять воз- звать». И печали кажутся лирическому герою напрасными, ведь вся судьба предопределена: «То шествие судьбы возможно ли претерть?».
Философское осмысление прошлого, забрезжившая в финальных строках надежда, ― всё это сближает анализируемое стихотворение Радищева с «Элегией» (1830) Пушкина. Лирический герой Пушкина находит утешение и покой в поэтических вымыслах, в любви. Лирический субъект Радищева же зрит утешение в настоящем, обозримом мире – недаром это чувство появляется у него с утра, с рассветом, когда прошла ночь и рассеялись ночные грёзы:
‒ Се живописное светило возблистало
И утрени мечты от глаз моих прогнало.
Приятный тихий сон телесность обновил,
И в сердце паки я надежду ощутил [12, с. 27].
Телесность, понимаемая как внешняя оболочка, своеобразный «сосуд», таящий в себе людскую душу, обновляется – единовременно происходит и обновление духа, обретение героем надежды – «И в сердце паки я надежду ощутил».
Традиция Псалтири прослеживается и здесь, именно рассвет (денница) становится предвестником утешения в Псалме 118: «Предваряю рассвет и взываю; на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое» [Пс. 118:147].
Можем проследить целую цепочку образов, выстраиваемых от стихотворения Радищева вплоть до произведений других эпох:
У А.Н. Радищева:
-
- Се живоносное светило возблистало
И утренни мечты от глаз моих прогнало,
Приятный тихий сон телесность обновил,
И в сердце паки я надежду ощутил.
-
- Подобно ей печаль в веселье претворится,
Оружьем радости вся горесть низло-жится,
На крыльях радости умчится скорбь твоя,
Мужайся и будь тверд, с тобой пребуду я.
У В.А. Жуковского – в «Невыразимом»:
Сие дрожанье вод блестящих,
Сии картины берегов
В пожаре пышного заката –
Сии столь яркие черты –
Легко их ловит мысль крылата
И есть слова для их блестящей красоты [5].
У А.С. Пушкина – в стихотворении «Погасло дневное светило»:
Где легкокрылая мне изменила ра-
Искатель новых впечатлений, <…> [10, т. 1, с. 117].
Мы видим, что и у Радищева, и у Жуковского, и у Пушкина состояние радости носит внеземной характер, оно напрямую связано с небесным миром, с полётом души. Отсюда назревает и тема поэтического вдохновения.
Таким образом, данное относительно небольшое стихотворение Радищева не только опирается на уже существующую, богатую предшествующую традицию (псалмы, переводы псалмов, духовные оды, драматургия XVIII века), но и становится истоком для лирики, созданной в дальнейшем: радищевские «звучания» мы слышим в лирике В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, особенно в философской лири- дость ке.
И сердце хладное страданью предала.
Список литературы Роль стихотворений А.Н. Радищева в развитии философской лирики А.С. Пушкина
- Бабкин Д.С. В.В. Капнист и А.Н. Радищев. 269-288. XVIII век. Сборник 4. Изд-во АН СССР. М.; Л., 1959. Отв. ред. П.Н. Берков.
- Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических основаниях и пределах личного самосознания. - М.: РГГУ, 2000. - 1005 с.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. - М.: Советская Россия, 1979. - 320 с.
- Берков П.Н. Некоторые спорные вопросы современного изучения жизни и творчества А.Н. Радищева. 172-205. XVIII век. Сборник 4. Изд-во АН СССР. - М.; Л., 1959. Отв. ред. П.Н. Берков.
- Жуковский В.А. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 1. - М.: Гослитиздат, 1959.