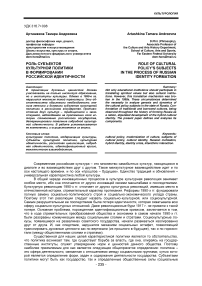Роль субъектов культурной политики в формировании российской идентичности
Автор: Арташкина Тамара Андреевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В трансляции духовных ценностей должен участвовать не только институт образования, но и институты культуры. Однако в 1990-е гг. нарушился механизм такой трансляции. Эти обстоятельства обусловили необходимость анализа генезиса и динамики субъектов культурной политики в российском государстве. Противостояние двух культур - традиционной и заимствуемой, наблюдаемое на протяжении всей истории становления российского государства, детерминировали появление гибридной культурной идентичности. В работе устанавливаются ее компоненты, и осуществляется их анализ.
Культурная политика, модернизация культуры, субъекты культурной политики, культурная идентичность, российская цивилизация, гибридная идентичность, идентификационный кризис, межэтническое взаимодействие
Короткий адрес: https://sciup.org/14933893
IDR: 14933893 | УДК: 316.7+008
Текст научной статьи Роль субъектов культурной политики в формировании российской идентичности
Современная российская культура – это множество самобытных культур, находящихся в диалоге и во взаимодействии друг с другом. Такое межкультурное взаимодействие идет и по оси настоящего времени, и по оси «прошлое – будущее». Единство традиций и обновления – универсальная характеристика любой культуры.
В общей череде инновационных процессов в культуре культурная революция занимает особое место, ибо она отличается от других инноваций своими масштабами и последствиями. Культурную революцию 1990-х гг. отличает от других культурных революций, имевших место в отечественной истории, стремительный характер протекания. Реформы 1990-х гг. фундировали полную замену социально-политического строя и социально-экономического уклада страны. Поэтому этот тип революции следует назвать социально-культурной, или социокультурной. Самым разрушительным ее последствием была потеря идентичности, которая охватывала всю сферу социально-культурных отношений. Даже революционные бури 1917 г. не привели к такой потере. Основная проблема, порожденная идентификационным кризисом, заключается в том, что в ходе стремительных преобразований общества и экономики в самом начале 1990-х гг. были разорваны коммуникации между социальными слоями и стратами. Социокультурные локусы, появившиеся на развалинах советского государства, начали развиваться изолированно друг от друга. И, как следствие, нарушился механизм социальных эстафет, позволяющий транслировать духовные ценности как по вертикали (из прошлого в будущее), так и по горизонтали (между общественными слоями и стратами).
Существенной для наших целей характеристикой политики является то обстоятельство, что политика возникает там, где существует борьба за власть, где она, опираясь на государственные институты, служит утверждению норм и ценностей данного общества. Поэтому наиболее приемлемым для нас является следующее общепринятое определение: политика – это сфера деятельности, связанная с отношениями между социальными группами, сутью которой является определение форм, задач и содержания деятельности государства. Субъектами политики могут быть как государство, так и определенные общественные силы (социальные - 235 - слои, общественные организации, социальные и культурные институты). Когда речь идет о культурной политике государства, или государственной культурной политике, то, прежде всего, обсуждаются формы, задачи и содержание деятельности государства в сфере культуры. В такой деятельности можно выделить, по крайней мере, три магистральных направления:
-
- финансово-экономические отношения между государством и институтами культуры;
-
- сохранение накопленного культурного потенциала, обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка разнообразия всей художественной жизни страны;
-
- восстановление и поддержание механизма трансляции духовных ценностей.
Дискуссии о путях развития российской культуры охватывают все три направления. Но если первые два направления обсуждаются в большинстве случаев действительно в контексте проблем культурной политики, то третье направление почему-то оказалась, как правило, закрепленным за институтом образования, в то время как без институтов культуры механизм трансляции духовных ценностей функционировать не будет.
Резкая смена идеологических установок происходила в стране в начале и конце XX в. Это означает, что механизм трансляции духовных ценностей в рамках российского государства в течение XX столетия нарушался дважды. До революции 1917 г. представители российской культуры, российская интеллигенция, российское общество формировали систему ценностей и ценностных ориентаций для передачи их в систему образования и последующей трансляции будущим поколениям. После Октябрьской революции 1917 г. формированием упомянутой системы ценностей, в основном, занялось государство. Однако на переломе эпох, в самом конце 1980-х – начале 1990-х гг., ни общество, ни государство уже не формировали системы ценностей и ценностных ориентаций, хотя и участвовали в этом процессе. На авансцене появились новые субъекты культурной политики.
Основные методологические подходы и принципы изучения института культуры учитывают его системную природу и системную организацию. Выбор методологии, объединяющей метод культурологического исследования В.М. Розина и учение о социальных куматоидах М.А. Розова (в рамках теории социальных эстафет), обусловлен разрывами, существующими в истории России. Культурологический метод В.М. Розина [1, с. 12-15] позволяет анализировать культуру каждого из этих исторических периодов с единых позиций, а учение о социальных куматоидах М.А. Розова [2, с. 8-11] способствует поиску социокультурных констант – инвариантов, как их называет сам М.А. Розов, – фундирующих основные тенденции социокультурного развития.
В истории России с древнейших времен до наших дней можно выделить, по крайней мере, пять исторических периодов, когда российская культура переживала процессы, по своим масштабам и признакам совпадающие с модернизацией: христианизация Руси; татаро-монгольское иго; реформы Петра I; XIX век, особенно вторая его половина; 1990-е гг. XX столетия.
Вводя и укрепляя христианство, Владимир I Красное Солнышко понял необходимость привить русскому человеку также и гражданскую культуру греков, перенять их образованность и знания. Таким образом, государство становится субъектом культурной политики, начиная с акта крещения Руси в 988 г., и запускается механизм социальных эстафет – начинают формироваться основные каналы проникновения византийской культуры в культурную ткань Древней Руси: идеология, принявшая форму христианской религии; искусство; образование. «Проникает» это не значит «поглощает». Русь не просто копировала чужую культуру, но и творчески преобразовывала ее в соответствии со своими представлениями, традициями и вкусами, делая ее самобытной и неповторимой. Главным каналом влияния византийской культуры на русскую была Церковь. Православная культура, сохраняющая византийские корни, составляет основу этнонациональной культуры русского народа. В то же время православная религиозная традиция способствовала консервации отдельных следов византийской культуры в идеологии и искусстве российского государства.
При татаро-монгольском завоевании также наблюдается процесс взаимодействия двух культур. Вхождение новых культурных образцов и паттернов поведения в новую этносреду не приводило к разрушению старой культуры, а помогало сохранить и охранить культурные образцы, паттерны и ценности обеих, участвующих в процессе модернизации культур. Охранителем русской культуры в период татаро-монгольского ига была Церковь. Несмотря на дискусси-онность, факт значительного взаимовлияния культур народов, почти три века проживавших в тесном политическом, социальном и демографическом контактах, является неоспоримым.
В период татаро-монгольского нашествия русские княжества оставались политически автономными, сохраняли местную княжескую администрацию, деятельность которой контролировалась постоянными или регулярно приезжавшими представителями ордынцев. Русские князья считались данниками ордынских ханов, но в определенных случаях оставались официально признанными правителями своих земель. Однако русская Церковь была освобождена от уплаты дани. И поскольку единого русского государства как такового в этот период не существовало, то в период татаро-монгольского ига на Руси появляется новый субъект культурной политики – Русская Православная Церковь.
Государство вновь становится активным субъектом культурной политики в период петровских реформ. Нововведения делались и до Петра I. Но только он придал им невиданный размах, небывалые темпы, круто повернул к Западу. Преобразования Петра коснулись всех сфер общественной жизни. По его приказу за границей закупались книги, приборы, оружие, приглашались иностранные мастера и ученые. При Петре появилась светская школа и была ликвидирована монополия духовенства на образование. Именно при Петре российская культура начинает приобретать явные гибридные признаки, а русская культура начинает становиться государственной культурой.
Некоторые исследователи отмечают, что модернизация России, начавшаяся в эпоху Петра I, дала первые ощутимые результаты лишь к началу XIX в. [3]. В первой половине XIX в. начинается промышленный переворот, позволивший стране достаточно быстро перейти к промышленному производству, разрушавшему вековой уклад. Завершение промышленного переворота в России относится к концу 70-х – началу 80-х гг. XIX в. Российское государство по-прежнему остается субъектом культурной политики, но активно действует через своего агента – Русскую Православную Церковь.
С началом промышленного переворота в России начинает формироваться еще один субъект культурной политики – общественность и интеллигенция, которая не была однородной. В средине XIX в. в структуре данного субъекта уже легко выделяются два самостоятельных крыла: консервативное дворянство, поддерживающее правительство во всех его культурнообразовательных начинаниях, и разночинная интеллигенция.
1990-е гг. – это годы социально-политических и социально-экономических реформ, когда страна стремительно переходила от социалистического общества к обществу с рыночными отношениями. До начала перемен общество, объединявшее народы с разными социокультурными и даже цивилизационными традициями, являло собой некую целостность, скрепленную единой государственностью, общностью социально-экономического строя и доминировавшей в общественном сознании социалистической идеологией. Открытие границ социокультурного пространства России стимулировало рост возможностей культурного выбора. В новой России 1990-х гг. субъектами культурной политики становятся:
-
- государство;
-
- Русская Православная Церковь;
-
- представители официальной российской гуманитарной культуры;
-
- представители многочисленных субкультурных объединений, существующих параллельно, а в отдельных случаях – противостоящих официальной российской гуманитарной культуре.
Российская культура на протяжении всех веков своей истории отражает сложный и противоречивый, полный взлетов и падений процесс смешения, переплетения и противостояния различных, а порой – и взаимоисключающих, культурных ориентаций. И все же, несмотря на противостояние, российская, а следовательно, и русская культура в ходе ее модернизации приобретала самобытные черты и переходила в новое качество, детерминирующее гибридную культурную идентичность. Этот тип идентичности формировался под воздействием двух диаметрально противоположных тенденций: социокультурного раскола и социокультурной интеграции. Следовательно, онтологический фундамент российского типа гибридной идентичности составляют следующие бинарные оппозиции: «противоборство – единение», «традиция – обновление».
Термин «гибридная идентичность» осваивается в литературоведении уже больше двух десятков лет. Как замечает Е.М. Бутенина, явление гибридной идентичности является одним из самых сложных и интересных явлений современной мультикультурной ситуации [4, с. 3]. Осмыслению данного феномена на Западе посвящены многие литературоведческие исследования последних десятилетий. Достаточно многочисленные примеры изучения или описания гибридной идентичности без использования данного термина или его аналогов можно найти и в российской литературе и российском искусстве. Характеризуя особенности гибридной идентичности, Е.М. Бутенина отмечает, что ей свойственна некая фрагментарность.
Наиболее ощутимо эти свойства гибридной идентичности репрезентируются на окраинах современной России. Так, анализируя антропо-культурное своеобразие русского менталитета в Сахалинском анклаве, А.А. Еромасова обращает внимание на тот факт, что «полиэтническое, межконфессиональное общение не могло не отразиться на системе нравственных и религиозных ценностей, которая в первую очередь обеспечивает отсутствие этнической напряженности в Сахалинской области, диалог культур, но в то же время ассимилятивные процессы народов, ее населяющих» [5, с. 36]. Не употребляя в своем исследовании термина «гибридная идентичность», А.А. Еромасова, по сути, анализирует именно социокультурный процесс формирования гибридной идентичности как у коренных народов анклава, так и у пришлого населения (русских, украинцев, белорусов и т.д.). При этом гибридная идентичность не разъединяла, а объединяла народы, населяющие анклав.
Если отвлечься от психологического контекста литературоведческой интерпретации, то основной характеристикой гибридной культурной идентичности как индивидуальной, так и коллективной является фрагментарность, включенность фрагментов разных культур и паттернов поведения в культуру и жизнедеятельность носителей идентичности. Гибридная идентичность – это некий механизм, позволяющий не только осуществлять различение этносоциальной системы от внешней социокультурной среды, но и включать эту же систему в ту самую внешнюю среду или переходить в другую этносоциальную систему. Тем самым в обязательном порядке гибридная идентичность эксплицируется двумя своими компонентами:
-
- принадлежностью индивида к конкретному социокультурному ареалу;
-
- принадлежностью индивида к социокультурной общности, обладающей свойством интеграции социокультурных ареалов.
В 1990-е гг. потеря идентичности и фундируемый ею кризис культуры в постсоветском обществе непосредственно связывается со стремительным распространением на постсоветском пространстве массовой культуры западного происхождения. Без широкого использования технических возможностей современных средств массовой коммуникации и массовой информации широкое проникновение массовой культуры такого типа в ткань иной культуры попросту невозможно. Это означает, что в структуре исторически сложившейся в российском государстве гибридной культурной идентичности произошла замена одной компоненты («принадлежность индивида к социокультурной общности, обладающей свойством интеграции социокультурных ареалов») на другую: распространение массовой культуры, детерминированной процессами глобализации.
На протяжении всего периода становления российской истории другие народы, входящие в состав российского государства, не ассимилировались, не утратили своего языка, культуры и национального самосознания, а образовали собственные социокультурные ареалы в границах российской цивилизации. Вместе с тем в истории Российского государства русский народ был не только носителем определенных культурных образцов, но и задавал вектор социокультурной глобализации в границах российской цивилизации. Данный процесс наблюдается и в настоящее время. Так, по данным Всероссийской переписи населения 2010 г. 5,7 % нерусского населения страны указали, что их родным языком является русский язык [6]. При этом речь идет не о господствующем языке как о культурном трансляторе, а о языке, позволяющем реализовать возможность адекватного перевода инокультурных ценностей без утраты ими своего ценностного потенциала. Именно эту функцию и выполняет русский язык.
Процессы межэтнического взаимодействия, протекающие на уровне формирования гибридной идентичности, подчиняются тем же самым закономерностям. Пренебрежение или недооценка в культурной политике хотя бы одной из составляющих способно не только привести к конфликту идентичностей, но и препятствовать развитию устойчивой коллективной идентичности (общекультурной, государственной, общенациональной, гражданской и т.д.).
Ссылки:
-
1. Розин В.М. Введение в культурологию. М., 1994.
-
2. Розов М.А. Феномен социальных эстафет: сб. статей. Смоленск, 2003.
-
3. См.: Вишневский А. Кризис русской соборности и консервативная модернизация в СССР // Материалы Независимого теоретического семинара «Социокультурная методология анализа российского общества» / руков. А.С. Ахие-зер; ред.-сост. Е.В. Туркатенко. URL: http://scd.centro.ru/index.html (дата обращения: 12.09.2005).
-
4. Бутенина Е.М. Под знаком ветра и воды: проблема гибридной идентичности в китайско-американской литературе: монография. Владивосток, 2007.
-
5. Еромасова А.А. Русский менталитет: антропо-культурное своеобразие (на материалах Дальнего Востока): авто-реф. дис. … доктора филос. наук. Санкт-Петербург, 2011.
-
6. Суринов А.Е. Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года // Портал «Всероссийская перепись населения 2010 года». URL: http://www.perepis-2010.ru/ (дата обращения: 25.12.2011).