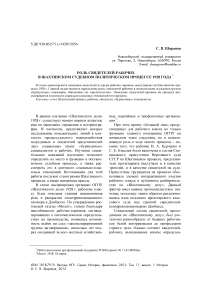Роль свидетелей-рабочих в Шахтинском судебном политическом процессе 1928 года
Автор: Шарапов Сергей Валерьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются показания свидетелей из среды рабочих-горняков, выступавших на Шахтинском процессе 1928 г. Главной целью является определение роли, отведенной рабочим в показательном осуждении группы «буржуазных» инженеров, обвиненных во «вредительстве». Поведение свидетелей-горняков на процессе рассматривается в контексте социально-классовых отношений того времени.
Шахтинский процесс, рабочие, свидетели, "буржуазные" специалисты
Короткий адрес: https://sciup.org/14737629
IDR: 14737629 | УДК: 930.85(571)
Текст научной статьи Роль свидетелей-рабочих в Шахтинском судебном политическом процессе 1928 года
В рамках изучения «Шахтинского дела» 1928 г. существует немало важных аспектов, еще не нашедших отражения в историографии. В частности, представляет интерес исследование поведенческих линий в контексте процессуального взаимодействия подсудимых и свидетелей представителей двух социальных групп: «буржуазных» специалистов и рабочих. Изучение свидетельских показаний последних позволяет определить их место и функцию в постановочном судебном процессе, а также рассмотреть его в контексте социально-классовых отношений. Источниками для этой работы послужат стенограмма Шахтинского процесса, а также материалы прессы.
В схеме инсценировки органами ОГПУ «Шахтинского дела» 1928 г. рабочему классу была отведена главная инициативная роль в раскрытии «контрреволюционного заговора в Донбассе». По утверждению ростовской газеты «Молот», только благодаря настойчивости рабочих-горняков, сигнализировавших о систематическом «вредительстве» на производстве, появилась возможность выйти на след «законспирированной группы заговорщиков», несколько лет подряд «водившей за нос» местные хозяйствен- ные, партийные и профсоюзные организации 1.
При этом проект «большой лжи» предусматривал для рабочего класса не только функцию главного помощника ОГПУ на начальном этапе следствия, но и немаловажную роль в ходе самого процесса – помимо того, что рабочие Н. А. Курченко и С. Е. Киселев были включены в состав Специального присутствия Верховного суда СССР на Шахтинском процессе, представители пролетариата выступали и в качестве зрителей, и в качестве свидетелей на суде. Присутствие трудящихся на процессе обеспечивало элемент интерактивного участия рабочего класса в публичном разбирательстве по «Шахтинскому делу». Данный фактор имел важное пропагандистское значение, поскольку таким образом реализовывалась идея подлинно пролетарского классового суда над группой «вредителей-контрреволюционеров» Донбасса.
Социальный состав свидетелей, проходивших по «Шахтинскому делу», был достаточно разнообразен: от бывших работников белой контрразведки до профессоров горного дела. Однако сегмент свидетелей-рабочих, выполнявших вполне определен-
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-01-00506а).
ную роль на процессе, может быть выделен и рассмотрен отдельно. Рабочие и близкий к ним низший технический персонал представляли большинство свидетелей – 61 % от общего их количества. Всего на процесс были вызваны 70 свидетелей, из них лишь 11 допущены по ходатайству защиты. Наибольшее число свидетелей проходило на процессе в его первые дни, когда перед судом предстали инженеры, непосредственно связанные с производством и соприкасавшиеся с рабочими-горняками. Сторона обвинения имела подавляющее преимущество по количеству свидетелей, привлекая шахтинских горняков давать показания против своих бывших начальников.
Фальшивость обвинительного материала и при этом наличие большого количества свидетелей из среды рабочих, готовых выступить против подсудимых, свидетельствует о негативном социальном фоне, на котором происходил процесс. В современных исторических исследованиях не раз отмечалось существование в рабочей среде устоявшихся антиинтеллигентских настроений, выплескивавшихся наружу в многочисленных стычках с инженерно-техническим персоналом (см.: [Пыстина, 1999; Абрамов, 1997] и др.). «Спецеедство» подкреплялось отношением к инженерно-техническим кадрам как к «новым эксплуататорам» рабочих, которое, однако, распространялось и на коммунистов [Пыстина, 1999. С. 54]. В одном из писем, поступивших в редакцию газеты «Правда» в 1928 г., рабочий Рожковский писал: «Говорят у нас ремонтные рабочие – слесаря, плотники и маляры: советская власть – власть коммунистов; коммунисты – это новые дворяне. Раньше правил капиталист, теперь коммунист и спец. Нам от этого не легче. Чтобы мы этого не чувствовали, нужно всем платить одинаковое жалованье, тогда только действительно все будут равны» 2.
Цель «Шахтинского дела», по замыслу его инициаторов, состояла в том, чтобы ввести протестные настроения рабочих масс в рамки искусственно созданной, контролируемой антиспецовской кампании, обозначив при этом, что коммунисты-хозяйственники оказались «в плену» у «буржуазных» инженеров. Для выполнения этой задачи требовалось представить на суде достаточное ко- личество свидетелей из рабочей среды, позволив им высказать накопившиеся претензии в адрес специалистов, осуществить своего рода социальный «наказ». Того же требовала общая слабость фактического материала обвинительного заключения, отсутствие каких-либо вещественных доказательств и независимых технических экспертиз. Судебный процесс, таким образом, представляется площадкой, на которой под ширмой правосудия осуществлялось фактически натравливание рабочих на высший технический персонал.
Специфика Шахтинского процесса заключалась в том, что рассмотрению на нем подлежала не только техническая сторона деятельности группы «буржуазных специалистов» в границах 1920-х гг., маркируемая как «вредительство», но и большой пласт их взаимоотношений с рабочими, продолжавшихся с дореволюционных времен. Донбасс, являясь ареной крупномасштабного военного противостояния в период гражданской войны, предоставлял повод привлечь к обсуждению на процессе те застоявшиеся конфликтные ситуации и сопутствующие им личные обиды, которые, безусловно, сопровождали то смутное время.
Ряд рабочих, бывших красноармейцев, были вызваны свидетелями на процесс главным образом для того, чтобы предоставить суду информацию о роли, деятельности и положении некоторых подсудимых во время Гражданской войны. Так, в отношении подсудимых В. Н. Самойлова и Н. Н. Березовского на заседании суда 24 мая свидетель П. М. Сизов, бывший член красного партизанского отряда, предоставил суду сведения об оказании ими материальной помощи белогвардейским отрядам В. М. Чернецова, подкрепляя это тем, что В. М. Чернецов лично некоторое время проживал в доме Н. Н. Березовского 3. В другом случае, Е. К. Ко-лодуб на заседании 28 мая был обвинен рабочим Л. А. Вайловым в том, что тот, по выражению свидетеля, являлся «особенным дружком» атамана А. М. Каледина 4. Нашлись свидетельские показания и об участии подсудимого Ф. Т. Васильева в белогвардейской банде Кучума. По утверждению свидетеля А. М. Янченко на заседании
29 мая, Ф. Т. Васильев состоял в банде ни кем иным, как атаманом 5.
Все подсудимые категорически отрицали фактическую составляющую показаний свидетелей. При этом следует отметить, что оговоры часто имели место в ходе процесса, поэтому необходимо с осторожностью подходить к свидетельским показаниям, тем более что мотивами их дачи могли быть личные обиды и неприязненное отношение. Кроме того, показания свидетелей не только обращались к достаточно отдаленному прошлому, но и зачастую основывались на разговорах с другими лицами или распространенных в то время слухах.
Представление об инженерно-технической верхушке как о «новых эксплуататорах» накладывалось на социальную память о вооруженной борьбе с бывшими владельцами и управленцами рудников во время войны. Распространенным обвинением со стороны свидетелей на процессе было обвинение в плохом обращении с пленными красноармейцами в период установившегося контроля белых за рудниками Шахтинского района. Нашлись очевидцы, приписывавшие факты такого рода обвиняемым Н. Н. Березовскому, С. А. Бабенко, В. Н. На-шивочникову и А. Б. Башкину. Так, на заседании 29 мая свидетель, бывший красноармеец, М. И. Петраков, попавший в плен в 1918 г. в составе 1-го Московского Коммунистического полка, показывал в отношении В. Н. Нашивочникова: «Нашивочников над нами буквально издевался. Он создал такую обстановку, что у нас люди буквально сходили с ума. Сейчас у нас несколько человек разбиты параличом вследствие его побоев. Лично меня он неоднократно бил, от чего у меня получилась атерома, которую мне после вырезали. Его отношение не только к пленным, но и к рабочим было возмутительным. Я знаю много таких фактов. Мы пленные не отличали себя от шахтеров» 6.
Логика инициаторов Шахтинского процесса предусматривала проведение неразрывной связи между антисоветской деятельностью подсудимых до установления советской власти и «вредительством» в период строительства социализма. Той же цели служило, пожалуй, самое распространенное обвинение, повторяемое свидетеля- ми-рабочими в адрес подсудимых на Шахтинском процессе, – утверждение о ГРУбом отношении к рабочим. Так, свидетель Ф. С. Кузнецов показывал, что Е. К. Коло-дуб во взаимоотношениях с рабочим часто прибегал к палке, с которой не расставался на руднике 7. По словам свидетеля М. О. Че-батова, подсудимый Башкин «не уважал» рабочих: «…если кланялись ему, он это очень любил, а если рабочий с ним поговорит, что-нибудь скажет, Абрам Борисович сейчас же: не разговаривать, не забывайте где находитесь» 8. В адрес Березовского о грубом отношении к рабочим заявлял свидетель М. Р. Киселев, утверждая 24 мая, что до революции «без “вашего благородия” к нему не подойти»: «Всех десятников, когда они приходили на работу, сейчас же начинал крыть матом, а если в свою очередь были неполадки, то он снимал фуражку, топал ногами, вплоть до мордобития» 9.
Реагируя на эти обвинения, некоторые из подсудимых не отрицали грубости по отношению к рабочим, но объясняли это, как, например, А. Б. Башкин, той горячей работой, которая выпала на их долю и недостатком рабочей силы 10. Тем не менее требовательность инженерно-технического персонала являлась без сомнения раздражителем для рабочих, что и проявилось в их свидетельских показаниях на Шахтинском процессе.
Зачастую свидетели-горняки не до конца понимали суть и масштабы предъявляемых «шахтинцам» обвинений. Наиболее показательным в этом плане было выступление на суде рабочего шахты «Пролетарская диктатура» Л. А. Вайлова 28 мая: «По этому шахтинскому делу здесь в Москве – конечно, это Москва – пишут, что это дело шахтинское. Но мы на руднике “Пролетарская диктатура” и вообще весь наш район называем это дело колодубовщиной. Это я вам ясно говорю, сверьтесь у нас на шахтах, что это дело мы называем колодубовщиной, ибо это дело контрреволюционеров, а правильнее сказать – все нити от Емельяна Колодуба, а все эти подсудимые являются только его пособниками» 11. Конкретные обвинения Л. А. Вайлова заключались в том, что Е. К. Ко-лодуб до революции, взимая с рабочих плату на квартирное содержание, доводил их до такой степени бедности, что рабочим не хватало денег на кусок хлеба. Тех же, кто осмеливался высказать протест, Е. К. Коло-дуб выдавал полиции, которая подчинялась его авторитету на руднике. Из этих показаний можно заключить, что Л. А. Вайлов воспринимал Шахтинский процесс не как суд над «законспирированной контрреволюционной организацией», ставившей задачу свержения советского строя, а как узаконенную расправу над инженерно-технической верхушкой, притеснявшей рабочих еще с дореволюционных времен.
Ухудшавшееся материальное положение было одним из главных факторов-раздражителей для рабочего класса. Материалы советской пропаганды о «Шахтинском деле» напрямую связывали тяжелые условия жизни рабочих с деятельностью «контрреволюционной организации». В сообщении прокурора Верховного Суда П. А. Красикова, опубликованном 10 марта в центральной прессе и давшем старт пропагандистской кампании вокруг «Шахтинского дела», утверждалось: «Заговорщики стремились всеми мерами к ухудшению положения рабочих на шахтах. Жилища не ремонтировались, опасные работы производились с преступной небрежностью и с прямым нарушением элементарных правил безопасности. При расчетах рабочие нередко обсчитывались, оскорблялись, сознательно провоцировались на стачки. “Неудобных” рабочих увольняли» 12. В подтверждение этому выступали на процессе и свидетели. Например, 22 мая беспартийный механик Н. Г. Золотарев давал следующие показания в отношении «вредительской» деятельности Н. А. Гавришенко: «Он очень часто не доплачивал рабочим. Производил всякие махинации, обсчитывал по сдельным и т. д., а как что, так просто кричал “гнать”. Первое слово на его языке было “гнать”»13.
Механизм пропаганды использовал накопившееся в среде рабочих недовольство для того, чтобы объявить фигурантов Шахтинского дела основными виновниками неудовлетворительного материального положения рабочих. Результаты пропагандистского воздействия «Шахтинского дела» прекрасно иллюстрируются словами уже упоминавшегося свидетеля П. М. Сизова на заседании 24 мая: «Заработная плата постепенно падала и рабочие стали роптать не только против отдельных спецов, но и против советской власти, которая не дает возможности заработать и улучшить положе-ние»14.
Личные обиды, былые производственные и бытовые столкновения служили дополнительной мотивацией для дачи свидетельских показаний в пользу обвинения. По всей видимости, и в случае с П. М. Сизовым не обошлось без сведения личных счетов. По показанию В. Н. Самойлова 24 мая, при его столкновении со свидетелем по поводу премирования рабочих в 1927 г., тот бросил следующую фразу: «премия пусть премией, а уж когда-нибудь я с вами посчитаюсь» 15. В свою очередь, на заседании 8 июня подсудимый В. М. Кувалдин объяснял показания Г. Г. Быханова, свидетельствовавшего о постоянном нажиме в работе со стороны обвиняемого, тем, что тот однажды сделал Г. Г. Быханову выговор за потерю дорогого насоса, после чего тот был снят с работы 16.
О том, что показания свидетелей-рабочих на процессе выражали распространенные настроения, свидетельствуют отклики рабочих в прессе. Например, в ростовской газете «Молот» 27 мая были опубликованы мнения рабочих Власовского рудника о фигурантах Шахтинского процесса. Так, рабочий Ситников следующим образом высказывался о И. Г. Горлове: «Что хотел, то и делал, мерзавец: такая сволочь была, что и не приступи. К окошку нельзя было подойти: разговаривать не хотел. Было заболеет рабочий от газа в шахте: на поверхность не пускает – раз полез, работай» 17.
Роль свидетелей-рабочих на Шахтинском процессе следует определить в нескольких отношениях. Во-первых, показания свидетелей были использованы для расширения доказательной базы обвинения, до тех пор основывающегося лишь на признательных показаниях обвиняемых. Во-вторых, реализовывалась идея классового пролетарского суда, участие рабочего класса в котором подчеркивало социалистический характер советского правосудия. В-третьих, сегмент рабочих, выступавших на стороне обвине- ния, придавал процессу необходимый социальный окрас, предоставив узаконенный «рупор» пролетариату для выражения своего недовольства «всевластием» специалистов.
«Шахтинское дело» задумывалось для нейтрализации взрывоопасного потенциала недовольства рабочих низким уровнем жизни и социальным неравенством. «Коммунист и спец», олицетворявшие для пролетариата то самое неравенство в получаемых благах, оказывались до раскрытия «Шахтинского заговора» в представлении рабочих в одной «упряжке». Публичная показательная дискредитация «буржуазной» интеллигенции позволяла в то же время вывести из под огня критики подлинных виновников тяжелого положения рабочих – большевистские власти.
Показания свидетелей на Шахтинском процессе активно использовались пропагандой для формирования «правильного» представления о ходе судебных заседаний в советских СМИ. Свидетельские показания выдавались как неопровержимые доказа- тельства вины «шахтинцев», лишающие всяческих оснований сомнения в недоказанности фактов «вредительства». «Мягкий» приговор по «Шахтинскому делу» был встречен рабочими, требовавшими более сурового наказания «шахтинским вредителям», с неодобрением. Инициаторы «Шахтинского дела» не пошли на поводу «кровожадных» требований рабочих, опасаясь спровоцировать неконтролируемый рост гонений на инженерно-технический персонал.
THE ROLE OF WORKERS AS WITNESSES AT THE SHAKHTY TRIAL 1928