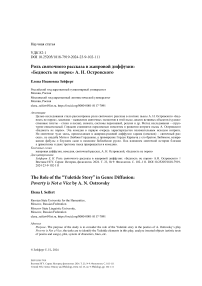Роль святочного рассказа в жанровой диффузии: "Бедность не порок" А. Н. Островского
Автор: Зейферт Е.И.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Целью исследования стало рассмотрение роли святочного рассказа в поэтике пьесы А. Н. Островского «Бедность не порок», задачами - выявление святочных элементов в этой пьесе, анализ вставных объектов (художественные тексты - стихи и песни), сюжета, системы персонажей, реплик и др. Метод исследования - структурно-описательный. Гордыня становится переломным моментом в развитии интриги пьесы А. Островского «Бедность не порок». Эта комедия в первую очередь характеризуется положительным исходом интриги. Но святочное чудо здесь, происходящее в жанрово-родовой диффузии «драма (комедия) - святочный рассказ», не свадьба Мити и Любови Гордеевны, а примирение Гордея Карпыча с его братом Любимом, возвращение фабулы о блудном сыне в исконное библейское русло. Под влиянием святочной истории близкая к драматизму и даже трагизму пьеса превращается в комедию.
Жанровая диффузия, комедия, святочный рассказ, а. н. островский,
Короткий адрес: https://sciup.org/147245835
IDR: 147245835 | УДК: 82-1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-9-102-111
Текст научной статьи Роль святочного рассказа в жанровой диффузии: "Бедность не порок" А. Н. Островского
,
,
Написанная в 1853 г. пьеса А. Н. Островского «Бедность не порок. Комедия в трёх действиях» (сначала драматург хотел назвать ее цитатой из Библии «Гордым Бог противится») 1 уже в 1854 г. вышла отдельным изданием и была поставлена на сцене Малого театра. Автор посвятил эту пьесу актеру Прову Садовскому 2, с успехом выступавшему в роли разных персонажей Островского, в том числе Любима Торцова. Заявив сразу после списка действующих лиц о художественном времени святок («Действие происходит в уездном городе, в доме купца Торцова, во время святок» [Островский, 1949, с. 111–140]) 3, Островский прямо обозначил возможное святочное развитие интриги (положительный исход заложен и в жанре комедии, указанном в подзаголовке). Действительно, пьеса имеет удвоенный сказочный хеппи-энд – завершается двумя свадьбами. Важность святочных элементов в развитии пьесы неоспорима, несмотря на резко критическое мнение о них Н. Г. Чернышевского: «Все эти сцены с плясками, играми, песнями и так далее решительно лишние и не связаны с пьесою ничем, кроме воли автора». Объясняет «лишние» сцены критик «небрежением автора к требованиям искусства», называя «Бедность не порок» «слабой и фальшивой» пьесой [Чернышевский, 1949, с. 232–240].
Святки – славянский народный праздничный комплекс зимнего календарного периода «от звезды до воды», от Рождества до Крещения. Святки особенно насыщены магическими обрядами, гаданиями, прогностическими приметами. В это время световой день сдвигается от тьмы к свету. Святки символизируют начало нового. Святочный рассказ разработан теоретически [Старыгина, 1992; Миночкина, 2013] и исследован на материале произведений Ф. Достоевского [Сухих, Плющ, 2015], Л. Толстого [Фатюшина, 2014], М. Горького [Плющ, 2015], Д. Мамина-Сибиряка [Зырянов, 2023] и др. «В классическом святочном рассказе (например, у Диккенса в “Рождественской песне в прозе, или святочном рассказе о привидениях”, “Часовых курантах”, “Сверчке на шестке”) “чудо” организует сюжет, предопределяет метаморфозу, происходящую с героем в рождественскую ночь» [Старыгина, 1992, с. 113].
«Бедность не порок» входит в ряд пьес Островского, названных идиоматическими выражениями (до этой пьесы драматург написал драмы «Свои люди – сочтёмся», 1849, и «Не в свои сани не садись», 1852). Безусловно, содержащаяся в названии истина влияет на всю пьесу: вложенная в уста Любима Торцова, фраза оправдывает себя в святочном финале, когда бед- ный Митя становится женихом Любови. Для пьесы «Бедность не порок» важно и первое ее название – «Гордым Бог противится». Действующие лица наделены говорящими именами и фамилиями – Гордей (страдает гордыней), Торцов (тупиковый, прямоугольный, упрямый), Любовь Гордеевна (олицетворение любви, любима и любит; близка и Любиму (Любовь), и отцу (Гордеевна), волю которого не смеет не выполнить), Коршунов (хищник), Разлюляев (праздный), Гуслин (музыкант), няня Арина (явно названа именем пушкинской няни) и др. Няня, наперсница Любови Гордеевны, говорит о Коршунове: «Налетел ястребом, как снег на голову, вырвал нашу лебедушку из стада лебединого, от батюшки, от матушки, от родных, от подруженек» (с. 123). Островский начинает диалог с читателем и зрителем несложными, опирающимися на народную фразеологию приемами.
Творчество Островского, безусловно, многосторонне изучено – в монографических работах Н. Скатова [1987], А. Журавлёвой, И. Макеева, В. Некрасова [Журавлёва, Макеев, 1998; Журавлёва, Некрасов, 1986], В. Лакшина [1982] и др. Пьесе «Бедность не порок» критиками, литературоведами и театроведами уделяется должное внимание. Одним из первых об этой пьесе написал, осмеяв ее поэтику, Н. Чернышевский [1949]. Однако затем пьеса получила ряд положительных оценок и вызвала к жизни литературоведческие работы, продолжая интересовать и современных исследователей.
Изучено влияние западноевропейской комедии на эту пьесу Островского [Тихомиров, 1974]. Г. В. Старостина [1987; 1995] исследовала высокое и комическое в пьесе А. Островского «Бедность не порок» и влияние на нее древнерусской литературы. Глава под названием «“Бедность не порок”. Драматизм сюжета и обновленная система персонажей в историколитературном и фольклорном контекстах» в диссертации Н. Музалевского «Ранняя драматургия А. Н. Островского и традиции комедийного жанра» посвящена, как видим, монографическому анализу исследуемой и нами пьесы. Литературовед сопоставляет пьесы Мольера «Мещанин во дворянстве» и Островского «Бедность не порок» по таким элементам и уровням, как сюжетообразующий мотив, общность конфликта, драматизм сюжета, система персонажей. «И Журден, и Гордей демонстративно отказываются от своего сословия, желая попасть в высший круг общества», – отмечает Н. Музалевский [2013, с. 187]. Истоком конфликта, по мнению исследователя, в обеих пьесах является стремление персонажа выйти за пределы своего социального поля, опираясь на внешние факторы – круг общения, богатство, лоск. Ко Ен Ран [2003] касается пьесы «Бедность не порок», рассматривая творческую личность в драматургии Островского. Театровед Д. А. Рыбакова [2013] упоминает о пьесе в аспекте театральной мифологии.
Несмотря на интерес ученых к пьесе А. Островского «Бедность не порок», она не становилась предметом монографического исследования в аспекте влияния на ее жанровый состав святочного рассказа, что указывает на актуальность исследования этого вопроса. Проблему жанровой диффузии по разным научным поводам в разное время ставили В. Аминева [2017], С. Матяш и ее ученики (Г. Бралина [2008] и др.). В монографическом исследовании жанровых процессов в поэзии российских немцев автор этой статьи уделяет пристальное внимание жанровой диффузии [Зейферт, 2009]. Интересно проследить роль эпического произведения (святочного рассказа) в жанровой диффузии в пьесе Островского «Бедность не порок». Это определяет научную новизну исследования. Целью исследования выступает рассмотрение роли святочного рассказа в поэтике пьесы А. Островского «Бедность не порок», задачами – выявление святочных элементов в этой пьесе, анализ вставных объектов (художественные тексты – стихи и песни), сюжета, системы персонажей, реплик и др. Метод исследования – структурно-описательный : автор статьи анализирует структуру святочного рассказа в пьесе, превращающую благодаря неправдоподобному счастливому финалу потенциальную драму в комедию.
Результаты исследования и обсуждение
В пьесе А. Островского «Бедность не порок» ряд святочных и в целом фольклорных элементов: ряженые («старик с балалайкой или гитарой, вожак с медведем и козой»), подлюб-ные, величальные, свадебные песни, патока (жидкий мёд) в руках Егорушки. Среди овеществленных предметов святочного календарного обряда - костюмы ряженых («Стремление изменить облик восходит к представлению о данном периоде как о времени, наиболее благоприятном для разгула нечистой силы» [Кимеева, Глушкова, 2015, с. 117]), музыкальные инструменты, упомянутая патока, колядки и др. «Атрибутикой ряженых являлись музыкальные инструменты (гармоники, балалайки)» [Там же, с. 118]: в пьесе у Разлюляева в руках гармония (Чернышевский, комментируя это, иронически отмечает: «на “гармонии” играют одни только дворовые люди и беднейший класс мещан» [Чернышевский, 1949, с. 238]), у ряженого - балалайка.
К святочной обрядности здесь относится также традиция вечёрочных посиделок. Основной целью таких вечёрок был выбор пары, для того чтобы в зимний мясоед сыграть свадьбу, поэтому вечёрочные игры и танцы были основаны на принципе парности. На вечёрки собирались в конце дня: играли в круговые игры, сопровождаемые песнями с поцелуями и направленные на выбор пары [ФКО, 1997]. В исследуемой пьесе Островского посиделки, на которые в начале произведения приглашает Митю Пелагея Егоровна («Зайди ужо вечерком к нам, голубчик. Поиграете с девушками, песенок попоёте» (с. 133)), действительно направлены на выбор пары для Любови Гордеевны: к ней ластится сговорившийся с ее отцом Коршунов, невесту ищет Разлюляев, тоже мечтающий жениться на Любови Гордеевне, томится от любви к ней Митя. Жениться хочет и Гуслин, любящий Анну Ивановну. Коршунов дарит Любови Торцовой кольцо с бриллиантом (кольцо - один из овеществленных предметов святок, предназначено для гадания и в этой роли тоже использовано в пьесе). На вечёрках в доме Торцовых танцуют и целуются, как и принято на святках. Гуслин приглашает на танец старую няню Арину, а Анна Ивановна просит танцевать с ней, грубо насмехаясь над выбором молодого человека («да ты что старуху-то теребишь, давай со мной»). К святочному обряду относится и катание на лошадях, в котором участвует Люба (Гуслин: «Что народу было на катанье!.. И ваши были» (с. 113)). Дети - обязательные участники святок. В пьесе фигурирует Егорушка - на вечёрках он пляшет с патокой как атрибутом святочного обряда.
В пьесе «Бедность не порок» содержится частичное описание обряда святочного гадания (указанием на него здесь служат, к примеру, подблюдные песни: «Любовь Гордеевна, Маша, Лиза и Анна Ивановна снимают кольца и кладут на блюдо; девушки запевают»), хотя избранник Любови Гордеевны Митя уже известен, как и известен желающий на ней жениться Коршунов. С другой целью (лоск) жгут свечи («Да вели зажечь свечи в гостиной, что новая небель поставлена. Там совсем другой ефект будет» (с. 130), - велит Гордей Карпыч). В пьесе не встречаются такие овеществленные предметы свадебного обряда, как используемые для гадания ложка, лента, повойник, зеркало, сапожок и др. Гадание на улице с сапожком не входит в пространство пьесы 4, действие которой разыгрывается в «доме купца Торцова». В пьесе есть и описание гадания на праздник Ивана Купалы в песне, которую исполняет Гуслин:
Как все венки сверх воды.
А мой потонул;
Как все дружки домой пришли,
А мой не пришёл.
(с. 127)
Среди героев пьесы «Бедность не порок» - творческие люди. Митя написал песню в стиле Кольцова (текст ее приведен в пьесе), Гуслин сразу же кладет стихи Мити на музыку. Н. Чернышевский скептически отнесся к творчеству Мити: «“По окончании пения все молчат” - от глубокого чувства, по мнению г. Островского, а, по нашему мнению, от того, что песня плоха и хвалить ее совестно, хоть на это и решается наконец Разлюляев» [Чернышевский, 1949, с. 236]. Явление, в котором Митя своими стихами признаётся в любви Любови Гордеевне, Чернышевский мастерски осмеивает: «Нам казалось бы еще правдоподобнее объяснение полуграмотного русского парня с безграмотною девушкою, если бы они принялись (по примеру Шатобриана, см. его “Замогильные записки”) читать Ариосто, и на каком-нибудь патетическом месте их уста слились бы в поцелуй» [Там же, с. 237]. В пьесе много читают, поют и играют на музыкальных инструментах. В начале пьесы Егорушка читает «Бову-королевича», а влюбленный Митя, оставшись наедине, поет:
Красоты её не можно описать!..
Черны брови, с поволокою глаза.
Да, с поволокою. А как вчера в собольем салопе, покрывшись платочком, идёт от обедни, так что… ах!.. Я так думаю, и не привидано такой красоты! (с. 112).
Затем Митя, Гуслин и Разлюляев поют втроем, на что Гордей Карпыч замечает: «Что распелись! Горланят, точно мужичьё!» (с. 127). Он же называет книгу Кольцова «глупостями». Поют девушки, вожак (ряженый). Девушки поют подблюдную, величальную, свадебную песни. Гордей Карпыч подносит Коршунову вино, приказывает жене кланяться, а девушкам запевать величальную. Поют величальную:
Сей, мати, мучицу, Пеки пироги. Слава!
К тебе будут гости, Ко мне женихи. Слава!
К тебе будут в лаптях, Ко мне в сапогах.
Слава!
Кому спели -Тому добро. Слава!
Кому вынется -Тому сбудется. Слава!
Коршунов: Вот и делу конец! Ну-ка, девушки, свадьбишную (с. 128).
Гордость (а точнее, гордыня) - важнейший мотив исследуемой пьесы. О гордости говорят Митя и Любовь:
Митя. А уж коль любишь друга, так забудь гордость!
Любовь Гордеевна: Какая гордость, Митенька! До гордости ли теперь! (с. 120)
В этом диалоге гордости (гордыне) противопоставлена любовь. (Митя и Люба часто говорят о любви друг к другу. Мы узнаём это от самих персонажей в их общении друг с другом и наперсниками: Митя признаётся в своей любви к Любови Гордеевне Гуслину и затем Пелагее Егоровне, Любовь Гордеевна - Анне Ивановне и затем матушке. «Ей бы теперь хоть бедненького, да друга милого» (с. 127), - причитает няня Арина, беспокоясь за судьбу своей воспитанницы. В комедии обязательно фигурируют «низшие» слои общества: здесь в афише няня и прислуга).
Островский показывает купеческий слой общества. Коршунов и Разлюляев бахвалятся богатством («Вот важность! Денег, что ли, у нас нет? (Бьёт себя по карману) Звенят!» (с. 119)). В списке действующих лиц Гордей Карпыч Торцов заявлен как «богатый купец», а его брат Любим Карпыч как «промотавшийся». «Любим Торцов, который должен был стать в какой- то степени ”идеальным” купцом, так как не был обделен талантами, образованием и совестью, но, как водится на Руси, потеряв веру в людей, мгновенно разорился и от горя спился», – пишет В. Бойко, рассуждая о купечестве в пьесах Островского [Бойко, 2017, с. 67]. Чернышевский осмеял Островского за рассказы Любима о его судьбе: «…как будто бы Митя, столько времени живший с ним в одном доме, не слышал уже их от него тысячу раз» [Чернышевский, 1949, с. 238]. Но здесь важно учесть, что, во-первых, перед нами пьяный человек (а даже если он бывает и трезв, то всё равно болен алкоголизмом), поэтому он говорит об одном и том же много раз, во-вторых, Митя чрезвычайно учтив, тем более с родными своего хозяина, и вежливо слушает не в первый раз, и, в-третьих, зрителю и читателю лучше узнать об истории Любима от него самого. Реплики пропойцы Любима Карпыча предвосхищают монолог Мармеладова, предлагающего себя не жалеть, а распять, уничижающего и одновременно возвеличивающего пьяниц. Достоевский, кстати, вкладывает в уста Марме-ладова такое признание: «Милостивый государь, – начал он почти с торжественностию, – бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета – порок-с. В бедности вы ещё сохраняете своё благородство врождённых чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда дело питейное» [Достоевский, 1989, с. 93]. Фразу «Бедность не порок» в пьесе произносит Любим: «Брат! И моя слеза до неба дойдёт. Что он беден-то! Эх, как бы я беден был, я бы и человек был. Бедность не порок» (c. 130), приравнивая бедность к добродетели. Отношение романиста к исследуемой пьесе Островского нуждается в развернутом уточнении в отдельной статье.
В произведении Островского прослеживается искаженная фабула возвращения блудного сына. Любим Карпыч рассказывает Мите историю своей жизни. Когда отец умер, Любиму было двадцать лет. Гордей взял себе заведение, а брату отдал деньгами и векселями. Любим Карпыч поехал в Москву получать по билетам деньги и с головой окунулся в московскую разгульную жизнь, прокутив наследство. То, что осталось, Любим Карпыч доверил своему приятелю Африкану Коршунову, который его и обманул. Остался Любим Карпыч ни с чем в Москве, стал скоморохом ходить. Той зимой он сильно простудился и попал в больницу. Решился он, как выздоровеет, сходить Богу помолиться и проситься потом к брату. Брат принял его неласково, стал стыдиться его, пенять на разгильдяйство. После пресловутого обеда, на котором Любим паясничал, Гордея взяла обида, он решил проучить брата («Ему, дураку, наука нужна»). После примирения братьев в финале пьесы библейская история о блудном сыне возвращается в исконное русло – брат (как отец) принимает заблудшего. Означает ли примирение, что Гордей Карпыч берет своего брата на довольствие и будет впредь закрывать глаза на его пьянство? Об этом Островский умалчивает. Однако фабула о блудном сыне реконструируется. «Русский драматург начинает развивать в сюжете психологическую сторону, выделяя нравственную константу в таком нетрадиционном персонаже, как Любим Торцов. Его активное участие в финале комедии доводит развитие действия до истинного драматизма, обеспечивая новизну», – утверждает Н. Музалевский [2013, с. 99].
Истинным святочным чудом в пьесе является примирение братьев, а не свадьба. Решение отдать дочь за Митю принимается как раз по причине гордыни Гордея Карпыча (в пьесе своеобразный гордиев узел), оскорбившегося из-за предложения Коршунова («Нет, ты теперь приди-ка ко мне да покланяйся, чтоб я дочь-то твою взял» (с. 124)). Свойственный святочному рассказу «утопический модус исторического будущего, предполагающий торжество присущих христианству нравственно-религиозных ценностей» [Зырянов, 2023, с. 29], реализуется в сцене примирения родных людей.
Гордей уступает просьбе своего брата Любима отдать Любушку за Митю, тем самым усиливая примирение. Возникнет новая супружеская пара. Ю. Брыкина высказывает следующее суждение: «В так называемых славянофильских пьесах драматурга нет ни одной молодой семейной пары. Но в том, что отношения Любови Гордеевны и Мити, Бородкина и Авдотьи
Максимовны будут сильно отличаться от других, нет никакого сомнения. Во-первых, потому, что их браки будут основаны на искренней взаимной любви, а во-вторых, потому, что их характеры и внутренний мир полностью противоположны образам Липочки, Подхалюзиных и Пузатовых» [Брыкина, 2017, с. 60]. Но так ли будет на самом деле? Счастлив ли союз Любови и Мити? Первое упоминание Митей Любови Гордеевны – о ее образе в собольем салопе и платочке и в целом так впечатлившей его ее внешности. Митя – человек очень неуверенный в себе, «обуянный тоской-кручиной», склонный к жалобам, на его попечении старая и больная матушка («Как же не тужить-то? Вдруг взойдут такие мысли: что я такое за человек на свете есть? Теперь родительница у меня в старости и бедности находится, её должен содержать, а чем? Жалованье маленькое, от Гордея Карпыча всё обида да брань, да всё бедностью попрекает, точно я виноват… а жалованья не прибавляет» (с. 129)). Трудно представить, что после женитьбы Гордей Карпыч перестанет упрекать Митю, возможно, его упреки возрастут. Чувство Любови Гордеевны к Мите совершенно бескорыстно, его достоинства – молодость и душевная мягкость (на доброту Мити надеются и Пелагея Егоровна, и Любим Карпыч: «Парень-то такой простой, сердцем мягкий, и меня-то бы, старуху, любил» (с. 113); «Брат, отдай Любушку за Митю – он мне угол даст. Назябся уж я, наголодался. Лета мои прошли, тяжело уж мне паясничать на морозе-то из-за куска хлеба; хоть под старость-то да честно пожить» (с. 129). Ни о каких других его достоинствах в пьесе не говорится, творчество его по художественному качеству сомнительно.
Таким образом, свадьбам (Митя – Любовь Гордеевна, Гуслин – Анна Ивановна) способствует сначала гордыня Гордея Карпыча и затем уступка его брату («Ну, дети, скажите спасибо дяде Любиму Карпычу» (с. 139), – говорит Пелагея Егоровна), а собственно примирению с братом – как раз смирение, Гордей преодолевает гордыню, чтобы наладить отношения с братом, который был «враг на всю жизнь». Островский изображает трагическую ситуацию (непримиримая вражда старшего брата с младшим, больным алкоголизмом; отец, отдающий дочь богатому старику без любви) и затем неправдоподобно (святочное чудо!) приводит ее к комедийному исходу. Именно в финале комедия начинает обильно играть шутками, обретает подчеркнуто комический тон.
Заключение
Гордыня становится переломным моментом в развитии интриги пьесы А. Островского «Бедность не порок». Эта пьеса как комедия в первую очередь характеризуется положительным исходом интриги, усиленным святочной историей, столь уверенной в жанровом составе пьесы. Но чудо здесь, происходящее в жанрово-родовой диффузии «драма (комедия) – святочный рассказ», не свадьба Мити и Любови Гордеевны, а примирение Гордея Карпыча с его братом Любимом, возвращение фабулы о блудном сыне в исконное библейское русло. Святочное чудо не имеет логики, происходит внезапно – отсюда и неправдоподобность в прощении Гордеем непримиримого «врага на всю жизнь» Любима. Святочные элементы создают на сцене и в тексте произведения атмосферу праздника, во время которого возможно волшебство. Таким образом, под влиянием святочной истории близкая к драматизму и даже трагизму драма на глазах у зрителя и читателя в финале превращается в комедию.
Список литературы Роль святочного рассказа в жанровой диффузии: "Бедность не порок" А. Н. Островского
- Аминева В. Р. Хикая как литературный жанр // Учен. зап. Казан. ун-та. 2017. Т. 159, кн. 1. С. 7–26.
- Бралина Г. М. Жанр инвективы в русской лирике середины XIX века: Дис. … канд. филол. наук. Самара, 2008. 254 с.
- Бойко В. П. Русское купечество в пьесах А. Н. Островского и в статьях его критиков // Вестник Том. гос. ун-та. 2017. № 48. С. 61–73.
- Брыкина Ю. Я. Супружеские отношения в купеческой семье в ранних произведениях А. Н. Островского // Человек и культура. 2017. № 2. С. 56–63.
- Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. Л.: Наука, 1989. Т. 5. 542 с.
- Григорьев Ап. А. Соч.: В 10 т. СПб.: Изд. Н. Н. Страхова, 1876. Т. 1. 316 с.
- Журавлёва А. И., Некрасов В. Н. Театр Островского. М.: Просвещение, 1986. 206 с.
- Журавлёва А. И., Макеев М. С. Островский. М.: Изд-во МГУ, 1998. 112 с.
- Зейферт Е. И. Жанр и этническая картина мира в поэзии российских немцев второй половины XX – начала XXI в. Лаге: BMV Verlag Robert Burau, 2009. 534 с.
- Зырянов О. В. Футурологический аспект святочного нарратива Д. Н. Мамина-Сибиряка // Филологический класс. 2023. № 1. С. 21–43.
- Кимеева Т. И., Глушкова П. В. Овеществленные компоненты святочного календарного обряда русских как объект нематериального культурного наследия // Вестник Кемеров. гос. ун-та культуры и искусств. 2015. № 30. С. 113–122.
- Ко Ен Ран. Творческая личность и её судьба в пьесах А. Н. Островского: Дис. … канд. фи-лол. наук. М., 2003. 150 с.
- Лакшин В. Я. Александр Николаевич Островский. М.: Искусство, 1982. 568 с.
- Миночкина Л. В. «Святочные рассказы»: трансформация жанровой формы // Творческое наследие Д. Н. Мамина-Сибиряка: итоги и перспективы изучения / Под общ. ред. О. В. Зырянова. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2013. С. 181–201.
- Музалевский Н. Е. Ранняя драматургия А. Н. Островского и традиции комедийного жанра: Дис. … канд. филол. наук. Саратов, 2013. 218 с.
- Островский А. Н. Бедность не порок // Островский А. Н. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.: Гос-литиздат, 1949. Т. 1. С. 111–140.
- Плющ В. Н. Жанровая специфика рассказа М. Горького «о мальчике и девочке, которые не замёрзли» // Евразийский союз ученых. 2015. № 4-8 (13). С. 116–119.
- Рыбакова Д. А. Театральная мифология в драматургии А. Н. Островского: Дис. канд. искусствоведения. СПб., 2013. 200 с.
- Скатов Н. Н. Создатель народного театра // Далекое и близкое. М., 1987. С. 150–174.
- Старостина Г. В. Традиции древнерусской литературы в комедии А. Н. Островского «Бедность не порок» // Русская литература. 1987. № 2. С. 113–120.
- Старостина Г. В. «Бедность не порок»: «высокое» и «комическое» в пьесе // Старостина Г. В. Древнерусская литература и народная культура в пьесах А. Н. Островского. Ульяновск, 1995. С. 66–71.
- Старыгина Н. Н. Святочный рассказ как жанр // Проблемы исторической поэтики. 1992. Вып. 2: Художественные и научные категории. С. 113–127.
- Сухих О. С., Плющ В. Н. Святочный рассказ в художественном осмыслении Ф. М. Достоевского («Мальчик у Христа на ёлке») и М. Горького («о мальчике и девочке, которые не замёрзли») // Вестник Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2015. № 4. С. 241–246.
- Тихомиров В. Н. Традиции западноевропейской просветительской комедии в пьесах Островского «Бедность не порок», «Не в свои сани не садись» // А. Н. Островский и русская литература. Кострома, 1974. С. 76–87.
- Фатюшина Е. Ю. «Святочная ночь» и «Альберт»: толстовское преломление традиции святочного рассказа // Вестник Тул. гос. ун-та. 2014. № 4 (1). С. 285–290.
- ФКО – Фольклор Кемеровской области / Сост. Е. И. Лутовинова. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. 197 с.
- Чернышевский Н. Г. Бедность не порок. Комедия А. Островского // Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1949. Т. 2. С. 232–240.