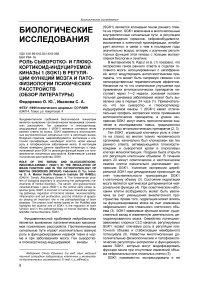Роль сыворотко-и глюкокортикоид-индуцируемой киназы 1 (SGK1) в регуляции функций мозга и патофизиологии психических расстройств (обзор литературы)
Автор: Федоренко Ольга Юрьевна, Иванова С.А.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Биологические исследования
Статья в выпуске: 5 (74), 2012 года.
Бесплатный доступ
Фундаментальной проблемой биологической психиатрии является выявление патогенетических механизмов психических расстройств. Ген сыворотко- и глюкокортикоид-индуцируемой киназы 1 (SGK1) является ключевым геном раннего ответа на стресс. SGK1 вовлечена в многочисленные внутриклеточные сигнальные пути, в регуляцию высвобождения гормонов, нейровозбудимости, воспаления и клеточной пролиферации, ингибирует апоптоз, играя важную роль в патофизиологии заболеваний мозга. В настоящем обзоре приведены данные зарубежной литературы о предполагаемой роли SGK1 в регуляции функций мозга и в патофизиологии психических расстройств.
Психические расстройства
Короткий адрес: https://sciup.org/14295602
IDR: 14295602 | УДК: 616.89:616.831:616-092
Текст научной статьи Роль сыворотко-и глюкокортикоид-индуцируемой киназы 1 (SGK1) в регуляции функций мозга и патофизиологии психических расстройств (обзор литературы)
ББК Р64-16
РОЛЬ СЫВОРОТКО- И ГЛЮКО-КОРТИКОИД-ИНДУЦИРУЕМОЙ КИНАЗЫ 1 (SGK1) В РЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИЙ МОЗГА И ПАТОФИЗИОЛОГИИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) Федоренко О. Ю.*, Иванова С. А. ФГБУ «НИИ психического здоровья» СО РАМН 634014, Томск, ул. Алеутская, 4
Фундаментальной проблемой биологической психиатрии является выявление патогенетических механизмов психических расстройств. Ген сыворотко- и глюкокортикоид-индуцируемой киназы 1 (SGK1) является ключевым геном раннего ответа на стресс. SGK1 вовлечена в многочисленные внутриклеточные сигнальные пути, в регуляцию высвобождения гормонов, нейровозбудимости, воспаления и клеточной пролиферации, ингибирует апоптоз, играя важную роль в патофизиологии заболеваний мозга. В настоящем обзоре приведены данные зарубежной литературы о предполагаемой роли SGK1 в регуляции функций мозга и в патофизиологии психических расстройств. Клю чевые слова : психические расстройства, SGK1.
ROLE OF THE SERUM- AND GLUCOCORTICOID-INDUCIBLE-KINASE-1 (SGK1) IN THE REGULATION OF BRAIN FUNCTION AND IN THE PATHOPHYSIOLOGY OF MENTAL DISORDERS (REVIEW). Fedorenko O. Yu., Ivanova S. A. Mental Health Research Institute SB RAMSci. 634014, Tomsk, Aleutskaya Street, 4. The fundamental problem of biological psychiatry is uncovering the pathogenetic mechanisms of mental disorders. The serum- and glucocorticoid-inducible-kinase-1 gene (SGK1) is the central early stress response gene. SGK1 is involved in numerous intracellular signaling pathways, regulation of hormone release, neuroexcitability, inflammation and cell proliferation, and the inhibition of apoptosis playing an important role in the pathophysiology of brain diseases. The present brief review based on the PubMed data highlights the putative role of SGK1 in the regulation of brain function and in the pathophysiology of mental disorders. Key words : mental disorders, SGK1.
Фундаментальной проблемой нейробиологии является выявление патогенетических механизмов психических расстройств. Протеинкиназные сигнальные пути играют исключительно важную роль в функционировании нервной ткани в норме и при заболеваниях мозга. Ген сыворотко-и глюкокортикоид-индуцируемой киназы 1
(SGK1) является ключевым геном раннего ответа на стресс. SGK1 вовлечена в многочисленные внутриклеточные сигнальные пути, в регуляцию высвобождения гормонов, нейровозбудимости, воспаления и клеточной пролиферации, ингибирует апоптоз, в связи с чем в последние годы значительно возрос интерес к изучению регуляторных функций этой киназы с позиции молекулярной биологии и генетики.
В метаанализе S. Kapur et al. (1) показано, что экспрессию генов раннего ответа в отделах головного мозга, ассоциированных с шизофренией, могут модулировать антипсихотические препараты, что может быть напрямую связано с их непосредственным терапевтическим эффектом. Несмотря на то что клиническое улучшение при применении антипсихотических препаратов наступает через 1—2 недели, основная положительная динамика заболевания может быть выявлена уже в первые 24 часа (1). Примечательно, что ген сыворотко- и глюкокортикоид-индуцируемой киназы 1 (SGK1) имеет отличительный профиль экспрессии после применения антипсихотических препаратов, а уровни экспрессии SGK1 могут иметь прогностическое значение в исследованиях новых, традиционных и атипичных антипсихотических препаратов (2, 3).
Ген SGK1, играющий ключевую роль в ответе на стресс во многих тканях человеческого организма, изначально был клонирован как ген раннего ответа, активирующийся глюкокортикоидами и сывороткой крови в опухолевых клетках млекопитающих. Позднее была открыта его регуляция клеточным объемом. В течение всего 20 минут осмотическое и изотоническое сжатие клетки значительно увеличивает экспрессию SGK1. Усиление экспрессии церебральной SGK1 при дегидратации происходит за счет чувствительности транскрипции SGK1 к клеточному объему (3). Состояние гидратации мозга является критической детерминантой нейрональной функции (4). При осмотическом набухании клетки возбудимость может быть увеличена за счет уменьшения внеклеточного пространства. Кроме того, гидратация может влиять на функционирование мозга за счет изменения нейронального или глиального клеточного объема (3). SGK1-зависимые функции вносят существенный вклад в измененную деятельность дегидратированного мозга. Семейство потенциалзависимых хлорных CLC-каналов, регулируемых SGK1, играет ключевую роль в регуляции клеточного объема и стабилизации мембранного потенциала (5). Известны многочисленные дополнительные физиологические и патофизиологические регуляторы экспрессии и функционирования SGK1, которые могут модифицировать функцию мозга при отсутствии изменений объема нейрональных или глиальных клеток (3).
SGK1 повсеместно экспрессирована и ее транскрипция контролируется широким спектром гормонов и регуляторов. SGK1 повышает содержание и/или активность белка различных ионных каналов (SCN5A, ENaC, ASIC1, TRPV5,6, ROMK, Kv1.1-5, KCNE1/KCNQ1, KCNQ2-5, GluR6, VSOAC, ClC2, CFTR), переносчиков (NHE3, NKCC2, NCC, NaPiIIb, SMIT, GLUT1,4, SGLT1, NaDC, EAAT1-5, SN1, ASCT2, 4F2/LAT, PepT2, CreaT), и Na+/K+-ATPase (3, 6). Некоторые переносчики, такие как NHE, NKCC или SMIT, участвуют в регуляторном увеличении клеточного объема. Поэтому увеличение активности SGK1 при сжатии клетки может содействовать регуляторному увеличению клеточного объема. Стимуляция K+ и Cl-каналов SGK1 киназой тем не менее способствует регуляторному снижению клеточного объема. Таким образом, SGK1 вовлечена как в регуляторное увеличение, так и в снижение объема клетки (3).
SGK1 участвует в регуляции внутриклеточного транспорта, высвобождения гормонов, нейровозбудимости, воспаления и клеточной пролиферации. SGK1 ингибирует апоптоз, про-дливая жизнь клеток (3, 6).
Церебральная SGK1 активируется глюкокортикоидами (7), кортикотропин-высвобождающим гормоном (8), гиперактивностью (9), интракраниальной самостимуляцией (10), хроническим эскалационным морфиновым режимом (11) и антипсихотическим препаратом клозапином (2). Транскрипция SGK1 повышается психостимулятором амфетамином, галлюциногенным препаратом диэтиламидом лизергиновой кислоты (LSD), нейрональным повреждением и нейрональной возбудимостью (3). Экспрессия нейрональной SGK1 супрессируется Zif268 (Egr1/Krox24/NGF-IA), транскрипционным фактором, ассоциированным с нейрональной пластичностью (12).
SGK1 играет важную роль в формировании долговременной памяти. Фосфорилирование SGK1 повышает посттетанизацию. Трансфекция постоянно активной SGK1 активирует экспрессию density-95 в гиппокампе и ослабляет экспрессию, но не индукцию долговременной по-тенциации (13). Трансфекция дикого типа SGK1 улучшает, а трансфекция неактивной SGK1 снижает способности к обучению у крыс. У таких животных трансфекция неактивной SGK1 ослабляет пространственное обучение, обучение устрашающими состояниями и обучение распознавания нового объекта. Кроме того, содержание гиппокампальной мРНК SGK1 повышена у быстро обучающихся крыс по сравнению с медленно обучающимися животными (3).
Трансфекция неактивной SGK1 в гиппокампальные нейроны нарушает, в то время как трансфекция постоянно активной SGK1 увеличивает ретенцию страха. SGK1 угнетает Hairy and Enhancer of split 5 (Hes5), что приводит к усилению ретенции страха, в то время как гиперэкспрессия Hes5 отрицательно регулирует контекстуальное формирование памяти страха (14). SGK1 стимулирует дендритный рост, который может играть роль в способностях обучения (3).
Роль SGK1 в консолидации памяти может относиться к ее эффекту на глутаматные рецепторы. Изоформы SGK1 активируют AMPA и каинатные рецепторы, и поэтому ожидается, что они увеличивают возбуждающие эффекты глутамата (6). Каинатный рецептор особенно важен для синаптической трансмиссии и пластичности в гиппокампе (15). SGK1 способствует глюкокортикоидной стимуляции экспрессии GluR6 в мозге. С другой стороны, SGK1 стимулирует глутаматные транспортеры (3), которые очищают синаптические щели от глутамата и поэтому останавливают возбуждение (16). Недостаток SGK1 может ослаблять действие глутамата, но в то же самое время снижать клиренс глутамата из синаптической щели. Так как глутамат может проявлять нейротоксические эффекты (17), то измененная функция или регуляция глутаматных транспортеров и глутаматных рецепторов может влиять на нейровозбудимотоксичность. Снижение экспрессии глутаматных транспортеров способствует внеклеточной аккумуляции глутамата, возбудимотоксичности и в конечном счете смерти нейрональной клетки (18). AMPA и каинатные рецепторы участвуют в патофизиологических процессах при шизофрении (3).
Помимо того, SGK1 может модифицировать возбуждение регулированием KCNQ каналов (3, 6), которые участвуют в поддержании нейронального мембранного потенциала (19). Поэтому представляются чрезвычайно важными новые данные о вовлечении KCNQ каналов в патологически изменённую нейрональную активность.
Повышенный разряд потенциала действия наблюдается при таких состояниях, как гипервозбудимость ЦНС, эпилепсия, тревожность, боль, биполярное расстройство и шизофрения. В то время как сниженный разряд потенциала действия наблюдается при депрессии, нарушениях нейрональной проводимости (например, при множественном склерозе) и когнитивных расстройствах (20).
Факт модуляции SGK1 глутаматных EAAT1-5 транспортеров и KCNQ каналов можно соотнести с открытой нами недавно регуляцией нейрональных EAAT3 глутаматных транспортёров и калиевых KCNQ каналов другой киназой PIP5K2A (21, 22). Нарушение этой функции у мутантной формы (N251S)-PIP5K2A приводит к повышению возбудимости дофаминергических нейронов и увеличению дофаминергической нейротрансмиссии (21), а также к нарушению захвата внеклеточного глутамата и развитию нейротоксичности (22). В этой связи полиморфные варианты
SGK1, вызывающие функциональные нарушения киназы, в соответствии с нашей гипотезой будут приводить к аналогичным патологическим изменениям нейрональной активности.
Подобные патогенетические механизмы могут быть ассоциированы с нарушением дофаминергической и глутаматергической нейротрансмиссии при других психических заболеваниях и поведенческих расстройствах, связанных с измененной нейрональной активностью. Так, например, показано, что при абстинентном алкогольном синдроме наблюдается существенное увеличение глутамата в мозге и снижение чувствительности NMDA-рецепторов, что приводит к поведенческим нарушениям (23). Кроме того, употребление алкоголя приводит к резкому усилению дофаминергической нейротрансмиссии, в то время как при абстинентном синдроме наблюдается ее подавление, что приводит к появлению таких симптомов, как дисфория и депрессия (24). На животных моделях показана тесная связь глутаматергической активности с агрессивным поведением. Так, например, введение L-глутамата в гипоталамус кошек вызывало у них агрессивную реакцию. Интересно, что генетически агрессивные виды характеризуются повышенным соотношением в мозге возбуждающих аминокислот (глутамат и аспартат) к их антагонистам (ГАМК и глицин) (25). Мыши, нокаутные по гену глутаматного рецептора I подтипа, характеризуются сниженной агрессией в различных поведенческих тестах (26). При депрессии изменяется чувствительность глутаматных NMDA (N-метил-D-аспартат) и AMPA (а-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолепропионовая кислота) рецепторов с усилением цитотоксического действия глутамата на нейроны, нарушается кальциевый гомеостаз, ингибируется транспорт глюкозы и повышается выработка свободных радикалов. Пациенты с депрессивными расстройствами, как с острым эпизодом, так и во время ремиссии имеют повышенный уровень глутамата в разных областях мозга. Предполагают, что при депрессии именно эти механизмы ответственны за атрофические изменения в ряде структур головного мозга и более всего - в гиппокампе (27).
Современные гипотезы поддерживают идею, что действие глутамата, особенно того, что находится вне синапса, может быть вредным для работы нейронов и может приводить к депрессии. Метаботропные глутаматные mGlu-рецепторы модулируют нейротрансмиссию посредством активации механизмов синаптической передачи с участием G-протеинов. Некоторые mGlu-рецепторы тесно взаимодействуют с NMDA-рецепторами и способны напрямую модулировать функции рецепторного канала NMDA. Ряд исследователей говорят о вовлеченности рецепторов mGluR2 и mGlu5 в формирование тревоги и рассматривают их в качестве мишеней для действия потенциальных средств терапии тревоги и болезней зависимости (3).
SGK1 участвует в сигнальной системе нейротрофического фактора, полученного из мозга (BDNF), который в свою очередь повышает продолжительность жизни нейронов, улучшает пластичность, настроение и формирование долговременной памяти. Поэтому SGK1 вовлечена во внутриклеточные сигнальные пути BDNF при таких психических расстройствах, как шизофрения и депрессия. Более того, SGK1 может усиливать эффекты антидепрессантов, антипсихотических препаратов и электросудорожной терапии. Кроме того, SGK1 оказывает эффект на креатиновый транспортер CreaT. Лица с дефектным CreaT страдают умственной отсталостью (3). Дефицит SGK1 может играть роль в большом депрессивном расстройстве, которое часто сопровождается недостаточностью глюкокортикоидных сигнальных путей (7). SGK1 может быть вовлечена в тревожные расстройства, так как дефицит фосфатидилинози-тид-зависимой киназы у мышей повышает тревожность и снижает содержание GABA и серотонина в миндалине (28).
Транскрипция SGK1 повышена при церебральной ишемии, и некоторые эффекты SGK1 могут облегчить выживание клетки при энергетической депривации. Например, стимуляция захвата креатина Na+-связанным креатиновым транспортером CreaT (3) повышает способность связывать фосфат с креатином и таким образом увеличивает возможность клетки быстро запасать доступную энергию. Стимуляция SGK1 глюкозного транспортера GLUT1 (29) обеспечивает нейроны субстратом для анаэробного гликолиза. При ишемии стимуляция энергоемкой Na+/K+-АТФазы SGK1, с одной стороны, приводит к ускорению энергетического истощения. С другой стороны, это препятствует снижению активности насоса и последующей потере клеткой K+, деполяризации, входу Cl-и клеточному набуханию - известным последствиям истощения энергии.
Таким образом, приведённые данные убедительно свидетельствуют о роли SGK1 в патофизиологии заболеваний мозга. Тем не менее степень участия SGK1 при психической патологии недостаточно ясна, поэтому необходимы дополнительные экспериментальные усилия для исследования вклада этой мультифункциональной киназы в церебральные здоровье и болезнь. По нашему мнению, при шизофрении, депрессии, алкоголизме, агрессивном и асоциальном поведении, в основе которых лежат нарушения дофаминовой и глутаматной нейротрансмиссии, могут выявляться нарушения работы нейрональных каналов и транспортеров, связанные с полиморфными вариантами гена SGK1. В этой связи ген SGK1 заслуживает дальнейшего изу- чения как ген предрасположенности к психическим и поведенческим расстройствам.
Обзор написан в рамках выполнения гранта РФФИ «12-04-01317-а Роль полиморфизма генов SGK1 и CLCNKB в патофизиологии психических расстройств» и ФЦП «Разработка комплекса мар-
керов основных социально значимых психических расстройств на основе изучения молекулярногенетических механизмов дизрегуляции нейрональных протеинкиназных сигнальных путей».