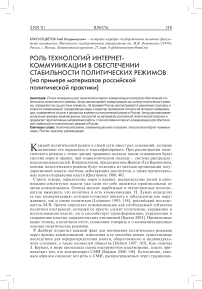Роль технологий интернет-коммуникаций в обеспечении стабильности политических режимов (на примере материалов российской политической практики)
Автор: Красноцветов Глеб Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Глобализация и цифровое общество
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена роли технологий интернет-коммуникации в вопросах обеспечения стабильности политического режима. Автор рассматривает коммуникацию как основу политического режима, определяет ее сущностные элементы. На примере России рассматривается изменение структуры и скорости коммуникаций, определяющих виды и характер применения технологий интернет-коммуникаций, определяется их роль в процессах влияния на политический режим в России. Автор рассматривает актуальные примеры влияния данных технологий на материалах российской политической практики и предлагает перспективные направления работы с технологиями интернет-коммуникаций для обеспечения стабильности политического режима в России.
Политический режим, коммуникационные основания, технологии интернет-коммуникации, Россия, практика, рекомендации
Короткий адрес: https://sciup.org/170171074
IDR: 170171074 | DOI: 10.31171/vlast.v28i1.7064
Текст научной статьи Роль технологий интернет-коммуникаций в обеспечении стабильности политических режимов (на примере материалов российской политической практики)
К аждый политический режим в своей сути имеет ряд оснований, которые позволяют его определять и классифицировать. При рассмотрении политического режима с точки зрения правового подхода таким основанием будет система норм и правил; при социологическом подходе – система распределения социальных ролей. В определении, предложенном Жаном-Луи Кермонном, основы политического режима будут исходить из методов организации государственной власти, системы действующих институтов, а также процессуальных основ отправления власти [Quermonne 1986: 40].
Строго говоря, определение норм и правил, распределение ролей и организация институтов власти уже сами по себе являются производными от актов коммуникации. Отсюда многие зарубежные и отечественные исследователи выводили, что политика и есть коммуникация. Н. Луман определял ее как коммуникацию, которая позволяет вводить в заблуждение как окружающих, так и самих политиков [Luhmann 1993: 154], российский исследователь М.Н. Грачев определял коммуникацию как необходимый субъектам политики инструмент, который не просто служит получению, удержанию и использованию власти, но и способствует трансформациям, укреплению и сохранению властно-управленческих отношений [Грачев 2005]. Приведенные выше тезисы, в конечном счете, позволяют говорить и о коммуникационных основах политических режимов.
Р. Дейберт подметил важный факт для понимания политических режимов через призму коммуникации: изменения в ее способах имеют существенные последствия для перераспределения власти, общественного и индивидуального сознания, а также ценностей общества [Deibert 1997: 165]. Как отмечал З. Бауман, в мире произошла смена инструментов властвования, власть принадлежит тем, кто контролирует СМИ [Бауман 2008: 156]. Естественно, главным образом социолог вел речь о СМИ, распространяемых через традицион- ные каналы коммуникации. В эпоху Интернета и современных коммуникаций вновь произошла смена властвования. Как пишет С.В. Володенков, современные технологии интернет-коммуникации, будучи обращенными не на пассивного потребителя информации, а на создание из него активно действующего в офлайне субъекта, становятся мощным инструментом воздействия на национальные политические режимы [Володенков 2017: 67].
При рассмотрении коммуникационных оснований современных политических режимов мы предлагаем выделять следующие тесно связанные между собой элементы:
-
– внутреннюю коммуникацию властной элиты, обеспечивающую согласие по вопросу распределения ролей, функций и композиционной организации власти;
-
– коммуникацию между властной элитой и контрэлитой, состоящую в обосновании первой своего положения или притязаниях второй на власть;
-
– коммуникацию властной элиты и контрэлит с обществом по вопросам обретения поддержки, распределения и перераспределения власти;
-
– коммуникацию элиты и контрэлиты с внешними акторами для обретения внешней поддержки;
-
– коммуникацию третьих акторов как в интересах элиты или контрэлиты, так и в собственных.
При таком взгляде на политический режим изменение устоявшегося шаблона коммуникации в одном из элементов вызовет немедленный отклик в других, а сам политический режим окажется под некоторым вектором влияния.
Например, антикоррупционные расследования или обличения оппозиции, направленные на коммуникацию с массовой аудиторией, а также элиты с контрэлитой и наоборот, неизбежно повлекут реакцию в элементах, связанных с коммуникациями внутри самой властной элиты, с внешними акторами и коммуникациями, осуществляемыми третьими силами. Аналогично сигналы, посылаемые между элитарными группами через СМИ или онлайн-пространство, могут быть уловлены, оценены и использованы в остальных коммуникационных элементах. Такие реакции способны как создать угрозу стабильности политического режима, так и послужить формированию тех или иных факторов поддержки.
Как было отмечено выше, особую функциональную роль в коммуникационной основе политических режимов сегодня играют технологии интернет-ком-муникации. Это прямо следует из текущего глобального тренда, состоящего в том, что внедрение технологий и ускорение темпа жизни приводят к необходимости ускоренного потребления контента, а следовательно и смыслов политической коммуникации в упрощенной форме и главным образом через мобильные устройства.
На примере современной России можно увидеть, что за последние 6 лет Интернет и социальные сети как главные источники информации показали рост с 23%1 до 67%2. Это неизбежно снизило долю традиционных каналов коммуникации. Наблюдается кратный рост популярности сервисов моментальных сообщений (мессенджеров), а также происходит существенный сдвиг с десктопных платформ на мобильные устройства. Так, месячная аудитория Telegram выросла в 10 раз за 3 года, достигнув 20 млн ежемесячных пользователей в июле 2019 г.1, WhatsApp превысил 36 млн2, Яндекс.Дзен вырос с 10 млн в ноябре 2017 до 59 млн чел. в сентябре 20193. Facebook использовался в 50% случаев чаще на мобильных устройствах, чем на стационарных компьютерах: 14 млн мобильных пользователей в месяц против 10 млн десктопных4. Близкие показатели отмечаются и по другим социальным сетям и сервисам.
Это означает, что происходит интенсивное возрастание роли сетевых коммуникаций. Элементы, лежащие в коммуникационных основах режима, становятся все более взаимозависимыми. Технологии влияния на политический режим в современной России, реализуемые через социальные сети, мессенджеры, персональные подборки новостей, приобретают все большую силу ввиду возрастания информационного охвата.
Стабильность же политического режима начинает подвергаться большему потенциальному внешнему воздействию из-за превалирования «спящих» интернет-технологий, подконтрольных субъектам однополярного мира. Применение таких технологий можно продемонстрировать на актуальной политической практике современной России.
Известно, что в «день тишины», в сентябре 2019 г., американские корпорации Google и Facebook использовались как площадки по распространению политической рекламы, что противоречит российскому законодательству. При этом Роскомнадзор уведомил руководство компаний о недопустимости подобных нарушений5. Несмотря на то что пользовательские соглашения предполагают ответственность распространителей рекламной продукции за ее содержание, отсутствие каких-либо фильтров для подобных ситуаций благоприятствует недобросовестным кандидатам.
Во время летних оппозиционных митингов в Москве в 2019 г., связанных с недопуском ряда кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму, было замечено, что пользователи, у которых были включены push -уведомления в иностранных социальных сетях, получали системные сообщения со ссылками на онлайн-трансляции этих митингов, что в определенной мере трансформировало пассивное наблюдение за митингами в активное участие. Рассылка подобных уведомлений осуществлялась в т.ч. через YouTube .
В то же время новости на социальных платформах онлайн-СМИ, представляющих интересы субъектов однополярного мира, при публикации информационных поводов о предстоящих митингах в ряде случаев сопровождались не встроенной URL-картинкой, а баннером с указанием времени и места проведения оппозиционного мероприятия1.
Интересным наблюдением также является то, что популярные зарубежные социальные сети с завидной регулярностью блокируют аккаунты провластных блогеров и агентов влияния2. При этом в отношении российских оппозиционных блогеров, в материалах которых существует множество явных нарушений внутренних правил сообществ, касающихся публикации персональных данных непубличных лиц, несовершеннолетних лиц, адресных данных, данных из нелегальных источников информации и многого другого, какие-то значимые меры сами эти площадки не применяют, даже при подаче жалоб на нарушения другими пользователями.
В каждом из приведенных примеров имело место воздействие на один или несколько из обозначенных нами выше коммуникационных элементов. Взаимно дополняясь и объединяясь с прочими технологиями, например организованными группами в соцсетях и мессенджерах, wireless -технологиями, астротурфингом, технологиями искусственного увеличения социальных реакций и пр., продемонстрированные технологии способствовали большей протестной консолидации, снижали качество коммуникации власти с аудиторией, а также создавали условия для дестабилизации политического режима.
Следует отметить, что власть со своей стороны также активно применяет различные технологии, в т.ч. вышеупомянутые, в своей деятельности. При этом от того, насколько эффективно происходит применение технологий с каждой из сторон, зависит, какое влияние на себя испытывает политический режим: будет он укрепляться, находиться в стабильном состоянии или же ослабевать.
Для достижения большей эффективности использования технологий интер-нет-коммуникаций в обеспечении стабильности политического режима предстоит еще справиться с многими трудностями. Прошлый опыт показал, что в российской практике новые коммуникационные площадки быстрее осваивали оппозиционные акторы. Они получали аудиторию, не охваченную коммуникациями власти, которая в отсутствие сильных информационных альтернатив концентрировалась вокруг этих акторов. В таком случае разработка стратегий присутствия должна начинаться еще с момента первых сообщений о возможных появлениях новых коммуникационных пространств. На уже существующих, но еще новых площадках типа Яндекс.Дзен и в Telegram-каналах ввиду особенностей вывода сообщений в тренды требуется переход от традиционных методов увеличения социальных реакций в пользу более гибких подходов, сопряженных с формированием понятных, позитивно воспринимаемых смыслов, которые станут первичными по сравнению с техническими методами продвижения. Противопоставление идей должно осуществляться через релевантные каналы: ситуация, когда, например, против одного крупного деструктивного сообщества выставляется несколько «позитивных», но мелких, эффективна до известных пределов. Требуется выработать систему получения «крупных» лояльных сообществ, основанных именно на горизонтальных коммуникациях. При наличии контроля за ключевыми социальными сетями Рунета подобное может быть решено через внедрение скрытых функций по слиянию более мелких лояльных сообществ. Особое внимание стоит уделить и нормативному регулированию данного вопроса: иностранные корпорации, предоставляющие плацдарм для «спящих» технологий, которые могут быть использованы во вред, должны быть соответствующим образом мотивированы к соблюдению национальных законодательств, а ответственность, потенциально возлагаемая на них, в т.ч. финансовая, должна быть не просто сопоставима с той, которая существует в тех странах, чьими агентами они являются, но и превосходить ее.
Список литературы Роль технологий интернет-коммуникаций в обеспечении стабильности политических режимов (на примере материалов российской политической практики)
- Бауман З. 2008. Текучая современность (пер. с англ. под ред. Ю.В. Асочакова). СПб: Питер. 240 с
- Володенков С.В. 2017. Интернет-технологии как инструмент воздействия на современные политические режимы. - Дискурс-Пи. Т. 28. № 3. С. 65-73
- Грачев М.Н. 2005. Политическая коммуникация: теоретико-методологический анализ: автореф. дис. … д.полит.н. М.: МПГУ. 52 с. Доступ: http://grachev62.narod.ru/Grachev/n60_05ar.html (проверено 09.01.2020)
- Luhmann N. 1993. Gesellschaftsstruktur und Semantik. - Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Frankfurt a.M. Bd 2. 293 s
- Quermonne J.-L. 1986. Les regimes politiques occidentaux. Ed. du Seuil. 329 s