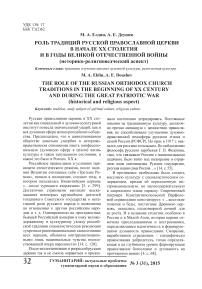Роль традиций Русской православной церкви в начале ХХ столетия и в годы Великой Отечественной войны (историко-религиоведческий аспект)
Автор: Елдин Михаил Александрович, Деушев Алексей Евгеньевич
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3 (31), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются изучение религиозной культуры, самоопределение нравственных традиций этносов России и ценностные нормы. Утверждается, что религиозная культура российских этносов значима как субъект духовной культуры.
Традиции, изучение предмет духовной культуры, религиозная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14720896
IDR: 14720896 | УДК: 130:
Текст научной статьи Роль традиций Русской православной церкви в начале ХХ столетия и в годы Великой Отечественной войны (историко-религиоведческий аспект)
Русская православная церковь в ХХ столетии как социальный и духовно-культурный институт понесла значительный ущерб, как и вся духовная сфера жизни российского общества. Предполагаем, что в цивилизованном обществе довольно ущербно в историконравственном отношении иметь конфессиональную (духовную сферу в целом) жизнь культуры в таком запущенном состоянии, в каком это было в России ХХ в.
Российское православие в условиях правящего атеистического режима, после падения Византии считавшее себя «Третьим Римом», попало в положение, сходное тому, в котором находилась Византийская церковь «…после турецкого вторжения» [5, с. 299]. Достаточно странными выглядят высказывания некоторых крупнейших деятелей тогдашнего Советского государства о негативной роли русского народа и шовинизма по отношению к другим российским народам и т. д. Одновременно на пространствах бывшей Российской империи в пику великодержавному и культурному укладу российской традиции социалистическая революция «укрепила разнонациональное самосознание всех народов, объявила контрреволюционными лишь национальные чувства господствовавшей вчера народности» [14, с. 128].
После коллективизации и репрессий русская деревня так и не смогла оправиться и продол- жала постепенно деградировать. Постоянные гонения на традиционную культуру, достаточно прочно связанную с ценностями православия, не способствовали улучшению духовнонравственной атмосферы русского этноса и самой России (РСФСР). Но крах в 1917 г. оказался для россиян тотальным. По наблюдению философа русского зарубежья Г. П. Федотова, «все, что связывало Россию с национальными задачами, было взято под подозрение и отравлено ядом скептицизма. Русское государство, русская нация сама Россия…» [14, с. 55].
В противовес необходимо было создать массовую культуру с социалистическим содержанием, придав ей определенную интернациональную, но малосодержательную в сакральном плане окраску. Современный патриарх Константинопольский Варфоломей справедливо констатирует: «…жестокие гонения и беды, постигшие Древнюю церковь, оказались плодотворной почвой для ее роста. И в недавние столетия, особенно в России и в Малой Азии, история церкви отмечена преследованиями и нестроениями, определяющими идентичность и формирующими духовность православия. Смирение, выработанное страданием, – специфически православная добродетель, точно определяющая и на глубинном уровне формирующая православное богословие и духовность на протяжении веков» [4, с. 68].
Элиты социалистических обществ целеустремленно создавали новые традиции, конструируя искусственную систему ритуалов и традиций – «социалистическую систему празднований». Началось разрушение многовекового уклада внешней жизни религиозных общин, а по сути, всего строя жизни российского общества, и фактически культурная «вероисповедная политика» новых властей была направлена на разрушение устоявшегося веками духовного строя и социального уклада культурной жизни. Особенностью советского периода является то, что многие решения государственной власти, оказывавшие значительное влияние на те или иные стороны общественной жизни, принимались руководителями страны без какого-либо законодательного обоснования, а иногда и «вобход» принятых законов.
С 15 августа 1917 г. начал работу поместный собор Русской православной церкви, на котором в ноябре 1917 г. жребием из трех кандидатов был избран патриархом Московским Тихон (Белавин). Тихон (патриарх Московский в 1917–1925 гг.), в миру Василий Иванович Белавин (1865–1925), происходил из семьи священника на Псковщине. Получив блестящее духовное образование и став архиереем, Тихон участвовал в американороссийской православной миссии на Аляске. С восстановлением патриаршества в Русской православной церкви в 1917 г. был избран по жребию патриархом «Московским и всея России». Новоизбранный глава российского православия заявил об отказе поддерживать какие бы то ни было стороны гражданского противостояния, развернувшегося на просторах бывшей Российской империи. По словам русского философа, исследователя истории русской духовности Г. П. Федотова, «истинный смысл отрицательной тактики (аполитизма) церкви – в положительной духовной жизни, в ней раскрывающейся» [14, с. 216].
Наиболее важным вопросом в его правление патриархией Москвы была проблема отношений с утвердившейся тогда в России советской властью. Именно с этим патриархом связана попытка противостоять антирелигиозной кампании, разразившейся с приходом к власти большевистской партии в России. Наиболее резонансным оказалось его знаменитое воззвание к православному российскому населению относительно нравственной атмосферы того периода. Отмечая антирелигиозный настрой новой власти, деятели Поместного собора Русской православной церкви определили возможность, с разрешения епархиальных иереев, проводить богослужения вне храмов и без особых украшений [10, с. 395].
Положение «православных традиционалистов» в советской России осложнялось и назревавшим, а, возможно, и инспирированным «сверху», раскольническим направлением «обновленчества». Видными идеологами «обновленцев» был выдвинут широкий план реформы русского православия: упрощение догматов веры, пересмотр этики, литургических канонов и т. п. Один из лидеров «обновленчества» А. И. Введенский писал: «Евангелие должно предстать в своей первобытной чистоте и красоте, в своей ясной простоте. Налеты византинизма, оскверняющие церковь союзом с государством, должно смахнуть не дерзкой, но дерзновенно любящей рукой… Нужно пересмотреть все сокровища церковные и понять, что в них Божье, а что мишура человеческая» [10, с. 165]. Сторонники церковного обновления обвиняли традиционалистов в «обскурантизме», указывая на опасность ухода прихожан в другие конфессии, где более мобильно реагируют на требования времени. В связи с этим основным вопросом споров «обновленцев» и «традиционалистов» была проблематика приходской жизни.
В годы суровых потрясений в истории русского общества и в духовной жизни России обновленческое движение в русском христианстве возникло как реформаторское, и все меры советской власти на первых порах были направлены на легитимизацию новой российской религиозной доминанты. В советском «Атеистическом словаре» так определяется специфика русского «обновленчества»: «Обновленчество – оппозиционное движение внутри русского православия на почве недовольства верующих и части духовенства контрреволюционной политикой Тихона… Обновленчество во многом впервые сформулировало те принципы функционирования религии и церкви в условиях социализма» [2, с. 314].
В 1922 г. отмечался всплеск возникновения обновленческих организаций, таких, как «Живая церковь», «Церковь возрождения», «Союз общин древлеапостольской церкви» и многих других. В среде обновленческих организаций был создан координационный совет, который возглавил протоиерей. Будущий митрополит русского «обновленчества», петроградской церкви св. Захарии и Елизаветы – Александр Иванович Введенский (1888–1946) [3, с. 42]. По мнению Г. П. Федотова, он «в годы революционного угара… пользовался большой популярностью» [14, с. 223].
С 23 апреля по 9 мая 1923 г. в московском кафедральном храме Христа Спасителя состоялся собор обновленческой церкви, на котором произошли возведение в сан митрополита А. И. Введенского, бывшего женатым протоиереем, и утверждение программных заявлений новой религиозной организации. Как отметил А. И. Введенский в своем воззвании, осуждавшем деятельность патриарха Тихона, старая традиция и русская церковная иерархия страдали монархизмом и цезарепа-пизмом: «Переверните ваши кресты – восьми конечные и четырехконечные – и вы прочтете имена императоров Павла I и Николая II…» [3, с. 43].
В деятельности «обновленчества» наметилось стремление узаконить «белый епископат, второбрачие», ликвидировать языковые церковно-славянские «анахронизмы». К концу 1923 г. к «обновленчеству» примкнуло не менее половины епископата и приходов Русской православной церкви. Как заявлял тогда Введенский, что подлинному христианскому пастырю «нужно приобщение к современному духу жизни. Нужно приспособляться к общечеловеческой культурности» [3, с. 44].
Казалось, что в России тех лет происходят не только социально-политические изменения всех основ жизни общества, но и коренная реформация церкви. Однако само верующее российское православное население вовсе не стремилось признавать «социалистическую реформацию церкви», но вообще становилось на позиции религиозного консерватизма. Как констатировал советский государственный деятель 1920-х гг. В. Бонч-Бруевич: «В России религиозная традиция такова, что верующие либо останутся в ортодоксии, либо от нее отпадут вовсе» [3, с. 46]. Многие прихожане Русской православной церкви отказывались от позиций «обновленчества» и стремились принести покаяние в торжественной обстановке. К 1935 г. обновленческий совет был упразднен.
Будущий патриарх Сергий так охарактеризовал соотношение «обновленчества» с традиционализмом: «Основной грех обновленчества состоит не в том, что не все его представители оказались безупречными в жизни, а в том, что обновленчество как корпорация, или, выражаясь языком канонов, как самочинное сборище откололось от св. церкви и «иный алтарь» водрузило. Но и всячески воевало против св. церкви…» [3, с. 45]. Довольно сложно судить только об религиозной стороне вопроса организационного кризиса русского православия в 1920-е гг., поскольку многое в указанный этап было наполнено политическим значением.
В условиях утверждения советской власти патриарх Тихон был вынужден искать пути примирения с новым правительством. Последнее, однако, пришло к выводу о необходимости ликвидации не просто Русской церкви, но и в целом любой религиозной организации в СССР.
Сергий (патриарх в 1943–1944 гг.), в миру Иван Николаевич Старгородский (1867– 1944). В 1920–1930-е гг. был заместителем местоблюстителя патриаршего престола митрополита Петра Полянского, а после его расстрела стал местоблюстителем. В декларации от 1927 г. Сергий взывал «к чадам» Русской православной церкви: «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи» [12, с. 260]. В годы Великой Отечественной войны он возглавил патриотическое движение церкви. В 1943 г. Сергий (Старгород-ский) был избран патриархом, но через год умер.
В то драматичное время Русская православная церковь вместе с советским народом испытала все тяготы и лишения жестоких военных испытаний. Как писал тогда ленинградский митрополит Алексей, во всем обществе была только одна мысль: «Нельзя проиграть эту войну! Нас станут уничтожать методично и зверски… Погибнет все, что накоплено веками: культура, храмы, язык. Речь идет о судьбе нации. Нам нельзя проиграть эту войну!» [9, с. 11].
Алексий (патриарх в 1945–1970 гг.), еще будучи митрополитом в Ленинграде в годы Великой Отечественной войны, осмысляя специфику русского патриотизма, заметил следующее: «Патриотизм русского человека ведом всему миру. Кажется, ни на одном языке рядом со словом «родина» не поставлено слово «мать», как у нас… Для русского человека защита отечества не просто священный долг, который он готов беспрекословно выполнить, это непреодолимое веление сердца, порыв любви который он не в силах остановить» [9, с. 11].
На Поместном соборе в 1945 г. был избран Патриархом Московским и всея Руси сподвижник патриарха Сергия митрополит ленинградский Алексий, в миру Сергей Владимирович Симанский (1877–1970). За 15-летие патриаршества Алексия Первого были возвращены многие монастыри и церкви Русской православной церкви, а религиозная жизнь православных россиян приобрела многие традиционные для православия вселенского формы. Однако, несмотря на расширившиеся международные связи РПЦ, ее бытие в СССР было подчинено сохранению основ традиции русского православия. По мысли патриарха Алексия Первого, долг патриарха – «хранить неизменность и неприкосновенность церковного учения».
Высказывались мнения, что церковные реформы просто необходимы, поскольку они обусловлены экономико-политическим и научным прогрессом общества. До сего дня довольно широко бытует положение о том, что православная традиция явилась в России негативным фактором, затормаживающим научно-экономическое развитие обществ с восточно-христианской культурной доминантой. Так, А. Альмарик утверждал, что восточная ветвь христианства, «носившая в России полуязыческий… служебногосударственный характер», отмерла [1, с. 338]. Данное положение не выдерживает критики хотя бы потому, что наблюдается благополучное функционирование в странах с рыночной экономикой, например, ислама, буддизма, конфуцианства и других религий, построенных на иных принципах, чем христианство, в «обновленном» виде. В целом, можно отметить, что, несмотря на свехло-яльное отношение к новым властям, «обновленчество» не стало доминирующим в тогдашнем русском православии, поскольку, как это отмечают и большинство современных исследователей-религиоведов, его программные установки не сообразовывались с характером массового религиозного сознания [13, с. 58].
В ХХ в. складывались советская идеология и первое в мире социалистическое государство. Как заметил современный исследователь этноистории российского общества В. И. Козлов, «в историческом материализме, несмотря на признание того, что идеи, овладевшие массами, становятся материальной силой, субъективным факторам исторического процесса, в том числе и национальным идеям, не уделялось должного внимания» [8, с. 45].
Во-первых, кризис отечественного типа ценностей духовной культуры привел к тому, что атомизированное общество в начале ХХ в. не смогло найти сколько-нибудь традиционалистского выхода из ситуации социального распада России. В России почти всегда государство строилось по идеологической схеме, но то были естественные идеологии. В качестве установившейся господствующей парадигмы после событий Октября 1917 г. в стране утвердились исторический материализм и диалектический материализм как основные способы мировоззренческих основ социального бытия человека. Наряду с материализмом утвердился и жесткий этатизм. И. В. Сталин (1879–1953) в работе «Экономические проблемы социализма в СССР» отмечал регулирование государством социальных процессов как важный инструмент управления стабильным обществом [11, с. 18]. В этих условиях практиковалась также тактика закрытия религиозных зданий «по просьбам верующих». В отчетах атеистических комитетов отмечалось, что отмирание религии носит формальный характер, многие колхозники сохраняют причастность к религии.
Обрушившиеся три революции, Гражданская война, последующие события
1920–1930-х гг. нанесли урон отечественной духовной культуре, сравнимый лишь с татаро-монгольским погромом ХIII в., а по воцарившейся бездуховности, торжеству ми-форитуализма, уродливому культу вождей, превзошедшему почитание римских императоров, по тотальному истреблению основ духовной традиции были превзойдены все катастрофы, в том числе Смутного времени начала ХVII в. Исследователь русской философии М. Н. Громов замечает: «Великая Отечественная война заставила несколько одуматься в диком процессе разрушения собственной культуры» [6, с. 200]. Постепенно, пройдя трудный, болезненный путь, начался процесс возрождения, восстановления и реставрации былых традиций отечественной культуры. Этот процесс и сейчас идет непросто, имеет негативные аспекты, не всех устраивает, но он объективно необходим. И существенным является то, что при восстановлении основ за эталон берутся русские духовные образцы.
Вопрос о сущности и судьбе российской духовной традиции и ее специфике в Новейшее время включает три связанные между собой группы проблем, одна из них относится к естественному, как говорят демографы, воспроизводству русского этноса и его моральному и физическому здоровью, другая – к его языково-культурному воспроизводству и «хозяйственно-политическому» здоровью, третья – к его взаимоотношениям с другими этносами Евразии. Великая Отечественная война внесла свои коррективы в деятельность верующих Поволжья. Это отразилось и в росте патриотических настроений, и в отправке добровольцами на фронт, и в повышении трудовой дисциплины в тылу.
Существенные перемены произошли после 1945 г., когда деятельность религиозных организаций в России подверглась государственным коррективам. Судя по свидетельствам, в селениях стали появляться молельные дома, крестьянские избы, где производились моления. Как правило, в ка- честве духовных наставников выступали особо уважаемые старики, те, кто обладал запасом соответствующего о религии знания. При отсутствии легальных культовых сооружений верующие молились на кладбищах, в частных домах и т. д.
Отец Василий Зеньковский писал с довольно актуальной и поныне констатацией: «Россия вступила в ХХ веке в период тяжких и катастрофических испытаний, из которых она не вышла до сих пор. Внешнее потрясение изменило весь государственный и социально-экономический строй России, коснулось всей частной жизни населения и в то же время отразилось на духовной культуре…» [7, с. 307]. Таким образом, признание важности духовного фактора в жизни общества стало важной чертой современного научного подхода. Обоснованием синтеза научной теории, гуманистически ориентированной, может служить та тенденция современного гуманитарного знания, которая во главе анализа ставит проблему социальнонравственного и политического интегризма, толерантности.
Процесс глобализации, начавшийся в XX в., продолжается в веке XXI. И если в экономическом аспекте можно говорить о дальнейшем развитии, с добавлением некоторых количественных параметров, идеи единого мирового пространства, зародившейся в начале XIX в., то в культурном аспекте речь идет исключительно о последовательном отстранении от всех национальных традиций. Культура российских регионов немыслима без исторически сложившихся традиций, норм и регламентаций, общего представления о долге, чести и совести, без опоры на моральные, религиозные и эстетические регуляторы. Это не только ценностно-рациональное отношение к миру, ограничивающее личные интересы человека и требующее служения чему-то внешнему, высшему Абсолюту, но и постоянно заданный импульс стабильного, выверенного уже тысячелетием опыта культурсозида-ния в России.
Список литературы Роль традиций Русской православной церкви в начале ХХ столетия и в годы Великой Отечественной войны (историко-религиоведческий аспект)
- Альмарик А. Просуществует ли Советский союз до 1984 г.?/А. Альмарик//Детектив и политика. -М.: Новости, 1990. -Вып 2
- Атеистический словарь/А. И. Абдусаламов, Р. М. Алейник ; под общ. ред. М. П. Новикова. -М.: Политиздат, 1986. -512 с
- Брушлинская О. Остался нераскаянным/О. Брушлинская//Наука и религия. -1988. -№ 6. С. 42-46
- Варфоломей, патриарх. Приобщение к таинству: Православие в третьем тысячелетии/Всесвятейший вселенский патриарх Варфоломей. -М.: Эксмо, 2008. -368 с
- Гонсалес Х. Л. История христианства: от Реформации до нашего времени/Х. Л. Гонсалес. -СПб.: Библия для всех, 2002. -Т. 2. -377 с.; Т. 1. -400 с
- Громов М. Н. Структура и типология русской средневековой философии/М. Н. Громов. -М.: ИФРАН, 1997. -289 с
- Зеньковский В. В. История русской философии: в 2 т./В. В. Зеньковский. -Ростов н/Д.: Феникс, 1999. -Т. 1. -544 с
- Козлов В. И. Национализм, национал-сепаратизм и русский вопрос/В. И. Козлов//Отечественная история. -1993. -№ 2. -С. 44-64
- Кононенко В. Память блокады/В. Кононенко//Наука и религия. -1989. -№ 1. -С. 9 -13
- Николин А. Церковь и государство: история правовых отношений/А. Николин. -М.: Изд-во Сретенского монастыря, 1998. -430 с
- Сталин И. В. Сочинения: в 3 т./И. В. Сталин. -М.: Госполитиздат, 1952. -Т. 1. -С. 17-18
- Слова и мысли русских патриархов. -М.: Ковчег, 1999. -С. 260
- Радугин А. А. Введение в религиоведение/А. А. Радугин. -М.: Республика, 1996. -406 с
- Федотов Г. П. Судьба и грехи России/Г. П. Федотов. -М.: ДАРЪ, 2005. -496 с