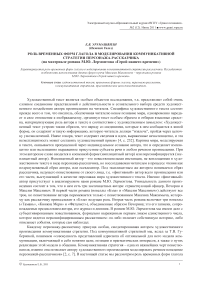Роль временных форм глагола в моделировании коммуникативной стратегии персонажа-рассказчика (на материале романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»)
Автор: Урумашвили Евгения Валерьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 2 (12), 2011 года.
Бесплатный доступ
Характеризуется роль временных форм глагола в моделировании коммуникативной стратегии рассказчика. Исследуются особенности использования данных форм в речи Максима Максимыча - персонажа романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Художественный текст, временные формы глагола, коммуникативная стратегия, прагматические цели повествователя, персонаж-рассказчик
Короткий адрес: https://sciup.org/14821645
IDR: 14821645
Текст научной статьи Роль временных форм глагола в моделировании коммуникативной стратегии персонажа-рассказчика (на материале романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»)
Художественный текст является особым объектом исследования, т.к. представляет собой очень сложное соединение представлений о действительности и сознательного выбора средств художественного воздействия автора произведения на читателя. Специфика художественного текста состоит прежде всего в том, что писатель, обеспечивая читателю новое познание мира, одновременно передает и свое отношение к изображаемому, организуя текст особым образом и отбирая языковые средства, материализующие роль автора в тексте в соответствии с художественным замыслом: «Художественный текст устроен таким образом, что наряду со сведениями, которые в нем сообщаются в явной форме, он содержит и такую информацию, которую читатель должен “извлечь”, пройдя через цепочку умозаключений. Иначе говоря, текст содержит сведения и идеи, выраженные неэксплицитно, и эта неэксплицитность может составить художественный прием» [4, с. 232]. Картина мира, моделируемая в тексте, оказывается пропущенной через индивидуальное сознание автора, что и определяет имплицитно или эксплицитно выраженное присутствие субъекта речи в любом речевом произведении. При этом авторское слово вводится в косвенной форме (имплицитный автор) или персонифицируется (эксплицитный автор). Имплицитный автор – это повествовательная инстанция, не воплощенная в художественном тексте в виде персонажа-рассказчика, но воссоздаваемая читателем в процессе чтения как подразумеваемый образ автора, или псевдоавтор. Под эксплицитным же автором понимается образ рассказчика, ведущего повествование от своего лица, т.е. «фиктивный» автор всего произведения или его части, выступающий в качестве персонажа мира художественного текста. Именно «фиктивный» автор присутствует в анализируемом нами романе М.Ю. Лермонтова. Уникальность данного произведения состоит в том, что в нем есть три эксплицитных автора: странствующий офицер, Печорин и Максим Максимыч. В первой части романа (новеллы «Бэла» и «Максим Максимыч») действуют все трое, но повествование автора перемежается только с повествованием Максима Максимыча, которому как рассказчику принадлежит в «Бэле» ведущая роль. Вторая часть романа включает три новеллы («Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист»), объединенные образом Печорина; это его записки, сопровождаемые предисловием автора, его журнал и дневник. В романе М.Ю. Лермонтова мы имеем дело с субъективированным повествованием, формально выраженным первым лицом единственного числа, которое ведется персонифицированным рассказчиком: он либо излагает собственную историю, либо описывает события, которые сам наблюдал.
Каждому персонажу-рассказчику присуща особая, смоделированная автором художественного произведения коммуникативная стратегия. Под коммуникативной стратегией мы, вслед за Т.В. Губернской, понимаем «совокупность представлений адресанта об оптимальной для него модели коммуникации, включающей в себя понятия цели, позиции и прагматических интересов, а также о путях реализации этой модели в общении. Коммуникативная стратегия – одна из важнейших черт повествователя, именно она позволяет автору художественного произведения моделировать речевое поведение персонажей-рассказчиков» [2, с. 7]. В настоящей статье мы рассмотрим роль временных форм глагола в создании коммуникативной стратегии Максима Максимыча – основного рассказчика в первой части романа.
Всего в речи данного персонажа встречается 1 010 форм времени глагола, соотношение которых можно показать в следующей таблице:
|
Формы наст. времени |
Формы прош. времени |
Формы буд. времени |
Всего форм в речи |
||
|
сов. вид |
несов. вид |
сов. вид |
несов. вид |
||
|
136 (13,47 %) |
461 |
334 |
72 |
7 |
1 010 (100 %) |
|
(45,64 %) |
(33,07 %) |
(7,13 %) |
(0,69 %) |
||
|
795 (78,71 %) |
79 (7,82 %) |
||||
Данные таблицы показывают, что в речи Максима Максимыча преобладают формы прошедшего времени. Анализ употребления данных форм показал, что в его речи форм прошедшего совершенного больше, чем прошедшего несовершенного (45,64 и 33,07% соответственно). Речь данного персонажа очень эмоциональна, поэтому выбор названных форм прагматически обусловлен: его рассказ насыщен драматическими событиями, а формы прошедшего совершенного делают авторское повествование более напряженным. Данные формы не просто последовательно передают происходящие действия, они встречаются в его речи тогда, когда он рассказывает о наиболее значимых, судьбоносных событиях. К таким событиям можно отнести, например, эпизод ссоры Казбича и Азамата из-за коня: Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок о камни. – Меня? – крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался … Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили , схватились за ружья – и пошла потеха! Крик, шум, выстрелы [3, с. 467]. Особой эмоциональной напряженности способствуют в данном примере и само построение предложений, и их лексическое наполнение (присутствие эмоционально окрашенной лексики). Употребление же форм прошедшего несовершенного достаточно нейтрально. Данные формы используются в основном при описании картин природы ( Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный; с одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками, оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор; кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны; с другой – бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа (Там же, с. 480–481)) или событий, которые просто имели место в прошлом ( Григорий Александрович каждый день дарил ей [Бэле] что-нибудь: первые дни она молча гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщице и возбуждали ее красноречие.<…> Долго бился с нею Григорий Александрович; между тем учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему.<…> и все грустила , напевала свои песни вполголоса, так что, бывало, и мне становилось грустно, когда слушал ее из соседней комнаты (Там же, с. 471)). Только в одной ситуации (эпизод, когда умирала Бэла) формы прошедшего несовершенного приобретают эмоциональную насыщенность : Она ужасно мучилась , стонала , и только что боль начинала утихать, она старалась уверить Григория Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих (Там же, с. 487).
Проведенный анализ показал, что наибольшее количество грамматических синонимов формы прошедшего времени (форм настоящего исторического, форм будущего в значении прошедшего) также встречается в речи Максима Максимыча. Все лучшее, что было у данного героя в жизни, связано с планом прошлого, от которого остались только воспоминания. Эти воспоминания так дороги ему, живы в его душе и сердце, что он рассказывает о прошедшем очень эмоционально: в его речи встречаются формы и настоящего времени (настоящее историческое), и будущего; глагольно-междометные формы, синонимичные формам прошедшего времени. Так, Максим Максимыч использует наибольшее количество форм настоящего исторического. Рассмотрим примеры: Мне вздумалось завернуть под на- вес, где стояли наши лошади… Пробираюсь вдоль забора и вдруг слышу голоса; один голос я тотчас узнал: это был повеса Азамат, сын нашего хозяина; другой говорил реже и тише [3, с. 464]. Максим Максимыч передает случайно услышанный разговор Казбича и Азамата. Этот разговор впоследствии окажет большое влияние на дальнейшие события: узнав о том, что Азамат готов пожертвовать сестрой ради возможности иметь коня Казбича, Печорин и задумает все то, что в конце концов так трагически закончится. В рассказ о прошедших событиях, где основными являются формы прошедшего времени (вздумалось, стояли), транспонируются формы настоящего времени (пробираюсь, слышу). Употребление форм настоящего времени, синонимичных формам прошедшего, придает изображаемым действиям оттенок переживания прошедших событий в момент речи. Максим Максимыч как будто снова совершает те действия, добиваясь при этом особого эффекта своего рассказа: слушающий его офицер представляет происходившее когда-то наиболее ярко, зримо, как совершающееся на его глазах. Данный пример как нельзя лучше подтверждает слова М.Я. Гловинской: «главная идея настоящего исторического – ментальная синхронизация действия и наблюдения» [1, с. 184]. Подобное употребление форм настоящего исторического мы встречаем в рассказе Максима Максимыча о похищении Бэлы Казбичем (Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть все. Вот смотрю: из леса выезжает кто-то на серой лошади, все ближе и ближе, и, наконец, остановился по ту сторону реки, саженях во ста от нас, и начал кружить лошадь свою как бешеный. Что за притча!..<…> Всматриваюсь, точно Казбич. <…> Опрометью поскакали мы на выстрел, – смотрим: на валу солдаты собрались в кучку и указывают в поле, а там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца; ружье из чехла – и туда; я за ним. <…> И наконец я узнал Казбича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда поравнялся с Печориным и кричу ему: «Это Казбич!..» Он посмотрел на меня, кивнул головою и ударил коня плетью.<…> Смотрю: Печорин на скаку приложился из ружья… «Не стреляйте! – кричу я ему, – берегите заряд; мы и так его догоним»… Но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади [3, с. 481–485]), повествовании о жизни в крепости (Григорий Александрович, я уж, кажется, говорил, страстно любил охоту: бывало, так его в лес и подмывает за кабанами или козами, – а тут хотя бы вышел за крепостной вал. Вот, однако же, смотрю, он стал снова задумываться, ходит по комнате, загнув руки назад, потом раз, не сказав никому, отправился стрелять, – целое утро пропадал; раз и другой, все чаще и чаще <…> Одно утро захожу к ним – как теперь перед глазами: Бэла сидела на кровати в черном шелковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что я испугался (Там же, с. 479)) и во многих других эпизодах.
В моделировании коммуникативной стратегии персонажа-рассказчика большую роль играет и стилистическая составляющая грамматических форм. Среди всех проанализированных форм наибольшей стилистической маркированностью отличаются глагольно-междометные формы. В романе мы отметили три случая использования подобных языковых единиц. Все они встречаются в повести «Бэла», в речи Максима Максимыча, что еще раз подтверждает особый динамизм, живописность и выразительность его речи, а также ярко выраженную принадлежность к разговорному стилю: Он ехал задумчиво шагом, как вдруг, Казбич, будто кошка, нырнул из-за куста, прыг сзади его на лошадь, ударом ножа свалил его наземь … (Там же, с. 474). Это описание убийства Казбичем отца Бэлы. Форма прыг в данном случае не только подчеркивает значение полной неподготовленности и вытекающей из этого неожиданности, а также быстроты, мгновенности действия, она еще ярче обрисовывает самого Казбича. Он – человек действия; воля его не знает колебаний, удар молниеносен, на обиду он отвечает расплатой, месть для него – действенное выражение морального закона (прыгнуть сзади на лошадь противника и свалить его ударом кинжала – это специфически горская форма расплаты за обиды). Употребление глагольно-междометной формы используется и при описании похищения Бэлы Казби-чем: Вот Казбич подкрался, – цап-царап ее, зажал рот и потащил в кусты, а там вскочил на коня, да и тягу! (Там же, с. 486). Здесь представлена форма с повтором, но значение ее то же: внезапность, мгновенность действия.
Достаточно показательным является также тот факт, что все встречающиеся в романе формы будущего времени, выступающие синонимами форм прошедшего, используются в речи Максима Максимыча: они выступают как средство речевой индивидуализации героя, подчеркивают живописность его речи: А бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются , и сейчас за кинжал [3, с. 462]. Так же, как глагольно-междометная форма прыг характеризовала Казбича, данные формы раскрывают перед нами образ Азамата, который, в сущности, и есть будущий Казбич: та же неуравновешенность, пылкость, сила, необузданность страстей, готовая в любой момент вырваться наружу.
Если говорить о формах настоящего времени, то использование автором данных форм в речи Максима Максимыча составляет всего 13,47% от общего числа форм в его речи (среди основных рассказчиков, к которым в данном романе, помимо Максима Максимыча, относятся Печорин и странствующий офицер, это самый низкий процент использования форм настоящего времени). Такое количество указанных форм совсем не случайно, это соответствует образу данного персонажа: все, что происходит «здесь и сейчас» не так актуально для данного героя, больший интерес вызывает у него то, что было в прошлом, именно с прошлым связаны его лучшие воспоминания. Таким образом, все формы настоящего времени в речи Максима Максимыча так или иначе связаны с рассказом о прошлом. В большинстве случаев данный персонаж использует формы настоящего качественного (в основном это относится к характеристике кавказцев) и настоящего расширенного: Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают , что кричат ? А черт их разберет, что они кричат ? Быки-то их понимают ; запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки все ни с места... (Там же, с. 457).
Что касается форм будущего времени, анализ показал: наибольший процент данных форм среди основных рассказчиков соответствует речи Максима Максимыча (7,82% от общего количества временных форм в речи, при этом 7,13% форм будущего совершенного и 0,69% будущего несовершенного). Особенность речи данного рассказчика заключается в том, что формы абстрактного будущего используются при характеристике других лиц, в основном кавказцев (наряду с формами настоящего качественного). Подобные формы встречаются, например, в том отрывке, который мы уже приводили (Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат? Быки-то их понимают; запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки все ни с места... Ужасные плуты! А что с них возьмешь?.. Любят деньги драть с проезжающих... Избаловали мошенников! Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут (Там же, с. 457–458)); а также в других отрывках (Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины! (Там же, с. 460); Ах, подарки! чего не сделает женщина за цветную тряпичку!.. (Там же, с. 471); Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи, таков уж был человек: что задумает, подавай; видно, в детстве был маменькой избалован… (Там же, с. 484); Вы молодежь светская, гордая: еще пока здесь, под черкесскими пулями, так вы туда-сюда... а после встретишься, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату (Там же, с. 497). Подобное употребление позволяет дать обобщенную характеристику описываемому. Данная характеристика достаточно эмоциональна (как, впрочем, и вся речь Максима Максимыча), этому способствует наличие особых, эмоционально окрашенных синтаксических конструкций (вопросительных и восклицательных предложений), а также стилистически маркированной лексики. В последнем примере достаточно значимым является употребление формы прошедшего времени, синонимичной форме будущего (пошла). В других случаях формы будущего времени используются для обозначения конкретных действий, которые должны произойти после момента речи: Да не зайдет ли он вечером сюда? – сказал Максим Максимыч, – или ты, любезный, не пойдешь ли к нему за чем-нибудь?.. Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимыч; так и скажи... уж он знает... Я тебе дам восьмигривенный на водку... (Там же, с. 491); Мы славно пообедаем, – говорил он, – у меня есть два фазана; <…> Мы поговорим... вы мне расскажете про свое житье в Петербурге... (Там же, с. 495). В подобном значении употребляются и формы будуще- го несовершенного, хотя их количество совсем незначительно (0,69% от общего числа форм в речи): Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно... ну да мы с вами будем жить по-приятельски... [3, с. 461].
Все сказанное позволяет сделать следующий вывод: в моделировании коммуникативной стратегии персонажа-рассказчика далеко не последнюю роль играют формы времени глагола, позволяющие автору выражать прагматические цели повествователей, соответствующие созданным образам.
Список литературы Роль временных форм глагола в моделировании коммуникативной стратегии персонажа-рассказчика (на материале романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»)
- Гловинская М.Я. Многозначность и синонимия в видо-временной системе русского глагола. М.: Рус. словари; Азбуковник, 2001.
- Губернская Т.В. Языковое воплощение категории повествователя в раннем русском романе (на материале прозы М.Ю. Лермонтова): автореф. дис. канд. филол. наук. СПб., 2002.
- Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени//Сочинения: в 2 т. М.: Худож. лит., 1990. Т. 2. С. 455-589.
- Падучева Е.В. Семантические исслед