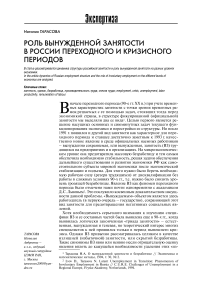Роль вынужденной занятости в России переходного и кризисного периодов
Автор: Тарасова Наталия Андреевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 2, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается динамика структуры российской занятости и роль вынужденной занятости на разных уровнях экономики.
Занятость, кризис, безработица, производительность труда, оплата труда
Короткий адрес: https://sciup.org/170165747
IDR: 170165747
Текст научной статьи Роль вынужденной занятости в России переходного и кризисного периодов
В начале переходного периода (90-е гг. ХХ в.) при учете временн ы х характеристик занятости с точки зрения временн ы х рамок решаемых с ее помощью задач, стоявших тогда перед экономикой страны, в структуре фиксированной (официальной) занятости мы выделяли два ее вида1. Целью первого является решение насущных основных и сиюминутных задач текущего функционирования экономики и перестройки ее структуры. Но после 1991 г. появился и другой вид занятости как характерное для переходного периода и ставшее достаточно заметным к 1993 г. качественно новое явление в среде официальных наемных работников – вынужденно сохраняемая, или вынужденная, занятость (ВЗ) трудящихся на предприятиях и в организациях. На микроэкономическом уровне она предотвратила массовую безработицу и тем самым обеспечила необходимую стабильность, решая задачи обеспечения дальнейшего существования и развития экономики РФ как самостоятельного субъекта мировой экономики после экономической стабилизации и подъема. Для этого нужно было беречь необходимую рабочую силу (резерв трудящихся) от дисквалификации без работы в сложных условиях 90-х гг., т.е. нужно было снизить уровень грозящей безработицы. Явление ВЗ как феномен переходного периода было отмечено нами почти одновременно с академиком Д.С. Львовым2. Это послужило косвенным доказательством насущности данной проблемы. «Вынуждаемым» объектом является здесь работодатель (в первую очередь – государство), сохраняющий этот вид занятости для предотвращения негативных социальных явлений.
ТАРАСОВА Наталия
Хотя необходимость серьезного внимания к изучению специфики ВЗ и ее составных частей была выявлена еще в 90-х гг., когда выявилась логически законченная «триада занятости» – естественная, вынужденная и теневая, но теоретический интерес многих специалистов к ней проявился только в период нынешнего кризиса. Однако ВЗ привычно рассматривалась целиком в качестве излишней (избыточной) занятости, или скрытой безработицы. Такие синонимы ВЗ явно или неявно несли отрицательную оценку явления вплоть до кажущейся необходимости удаления этих «из- лишеств», что предопределяло определенную психологическую дезориентацию и самих вынужденно занятых, и их руководства. С нашей точки зрения, именно этим объясняется повышенный в России уровень страха безработицы при невысоком (благодаря ВЗ) уровне самой безработицы. Такое явление статистически значимо (с 99-процентной вероятностью) отличало нашу страну от более чем 30 других участников Международной программы социальных обследований (ISSP) за 1997 г. и 2005 г.1 Если уровни безработицы и страха перед ней в РФ составляют соответственно 6,6% и около 60%, то в США и Европе это 9,6–10% и около 10%.
ВЗ лишь формально, ввиду ее сиюминутной ненужности, похожа на специфически «советскую» скрытую безработицу доперестроечного периода (она же – действительно излишняя занятость). Ранее специфически «советская» скрытая безработица являлась просто следствием фетишизации 100-процентной занятости трудовых ресурсов страны и средством хотя бы частичного сокрытия запрещенной и потому нерегист-рируемой деятельности, многие виды которой были легализованы в 90-х гг. Нередко состав скрытой безработицы до сих пор некорректно рассматривается как совокупность всех занятых в течение неполной рабочей недели или части рабочего дня, а также формально занятых лиц, когда работник лишь числится в штате. При таком традиционном, но уже устаревшем подходе полностью включаются объемы неполной естественной занятости и всей ВЗ, что определяет ошибочность такого измерения.
ВЗ включает, прежде всего, основной резерв естественной занятости и объединяет квалифицированные кадры типа «сил быстрого реагирования» (и, если необходимо, тех, кто технически обеспечивает их работу). Использование безработных и недавних выпускников вузов или средних специальных учебных заведений в качестве такого резерва нереально, поскольку не были созданы условия для сохранения, достижения или быстрого восстановления первыми и получения вторыми (при значительном снижении в среднем уровня профессионального образования) необходимого уровня квалификации. Поэтому мнение тех, кто считает, что значительная часть населения при создании условий роста реальных доходов и занятости способна быстро включиться в производственную деятельность, представляется истинным только по отношению к такой – резервной – занятости. Ее объем и качественный состав зависят от потребностей структурной перестройки экономики и прогнозируемых направлений ее дальнейшего развития в последующем периоде, когда потребность в квалифицированных кадрах возрастает. Это делает неправомерным отнесение резервной занятости к скрытой безработице. Нельзя сказать то же самое о другой части ВЗ – инерционной занятости, т.е. сохраняемом «по инерции» с прежних времен контингенте работающих (как шахтеры на нерентабельных шахтах), который вряд ли нужен в качестве резерва при наличии безработных, но не высвобождается по социально-политическим и тому подобным причинам. При таком подходе естественно полагать, что в состав истинной скрытой безработицы на предприятии или в организации входит величина именно инерционной занятости и какая-то доля социальной (третья часть ВЗ, возникающая по определяемым конкретной ситуацией социальным или личным причинам, – скажем, ради социального статуса).
На сохранение ВЗ фактически влияли и особенности нашей налоговой системы (способствуя, например, сохранению малооплачиваемой рабочей силы для уравновешивания повышенной оплаты ограниченного административного контингента), и высокие расходы на социальные мероприятия при массовом высвобождении, и определяющая обратное финансовое давление на бюджет невозможность соответствующего роста фонда пособий по безработице при дороговизне создания новых рабочих мест, нередкой дефицитности бюджета и отсутствии внебюджетных источников финансирования, и силовое давление властей на руководителей предприятий, и избирательная финансовая поддержка предприятий, определяющих ситуацию на рынке труда.
В то же время бытовало невнимание к проблемам ВЗ. Так, инерционная заня- тость не раз заявляла о себе стуком шахтерских касок, дошедшим до Москвы. Более терпеливая, хотя хуже оплачиваемая резервная занятость в сфере науки (где ее доля была достаточно весома), также заявила о себе, например, когда впервые в 1998 г. ученые РАН из подмосковного г. Троицка перекрыли движение по Симферопольскому шоссе в знак протеста против своей фактической невостребо-ванности.
В рамках триады занятости целесообразно оценивать ее как обусловленную не столько общеэкономическими закономерностями функционирования рынка труда, сколько реалиями переходного или кризисного периодов. Оплата труда всех разновидностей ВЗ чаще всего официальна и, соответственно, входит в состав официальных трудовых доходов. При инерционной занятости нередким был традиционно сложившийся высокий уровень номинально начисленной заработной платы (с долгими задержками ее выплаты), который практически снизить не удавалось по социально-политическим соображениям. С резервной занятостью ситуация иная – не случайно такие отрасли с ее высокой долей, как наука, входили в низкооплачиваемую группу отраслей. При оплате социальной занятости (где не исключена скрытая зарплата) как фактической доплаты для тех, кто работает реально (в т.ч. неофициально), это равноценно повышению оплаты труда последних и в масштабах страны не искажает статистику, не изменяя общий объем официальных трудовых доходов и потому не уменьшая объемы налогов, но не повышая размер пенсий реально работавших лиц.
В госстати.стике еще в 1994 г. был принят несколько видоизмененный подход с расчетом только так называемой вынужденной неполной занятости. Неравнозначное неполной вынужденной занятости, это понятие объединяет возникающие по инициативе администрации явления, как то: 1) отпуск без сохранения содержания, что непосредственно ассоциируется с полной ВЗ, – вынужденно отправляемые администрацией в отпуск работники и с их точки зрения, и официально (что ведет к конфликтам с налоговыми органами, которые «не любят» такие неоплачиваемые отпуска) являются полностью занятыми; 2) сокращение рабочего дня, что по отработанному рабочему времени соответствует, видимо, разности естественной занятости и неполной ВЗ.
За годы реформ изложенный подход претерпел определенные изменения. В отличие от 90-х гг., патерналистские привычки и настроения в обществе заметно уменьшились, но последний кризис вновь вызвал рост ВЗ. Ради предотвращения социальных осложнений крупные предприятия получали бюджетную помощь во избежание массовых сокращений (например, на АвтоВАЗе и смежных производствах была сохранена такая занятость сотен тысяч человек). Нынешний кризис во многом повторяет уроки прошлого, способствуя не столько сокращению численности трудящихся, сколько увеличению ВЗ, сдерживающей рост безработицы. Анализ объемов антикризисных финансовых «инъекций» в США и России1 показал, что относительные доли (в общих суммах) расходов разной социальной направленности – на образование, здравоохранение, социальную защиту – весьма близки, и лишь на борьбу с безработицей мы тратим всего 6% общей суммы при 25,5% в США. Видимо, это обстоятельство и объясняется в немалой степени характерным для России явлением ВЗ, когда при нынешней кадровой проблеме со специалистами дальновидные руководители вынуждены этим (практически единственно надежным) способом сохранять становящийся в перспективе дефицитным человеческий капитал.
В то же время теперь значительно, качественно расширилась область необходимого существования самого явления ВЗ, «захватывая» фактически не только микроэкономический уровень, но в определенной степени и средний (мезоуровень). Современный кризис распространил сферу определения этого показателя уже и на признанные «бесперспективными» небольшие моногорода и аналогичные поселки городского типа. Возникла проблема – существовать ли им за счет организации ВЗ или из-за банкротства градообразующего предприятия попросту исчезнуть в результате организации переселения жителей, наверняка намного более дорогостоящего во всех смыслах (хотя бы из-за жилья).
Решение этой проблемы зависит не столько от городских и даже региональных властей, сколько от властей более высокого уровня. Именно там формировались ранее планы по ликвидации «бесперспективных» деревень; этот пройденный (?) этап был далеко не успешным и, прежде всего, очень болезненным для жителей деревень. Он дополняется программой упразднения малокомплектных школ. При наших проблемах с транспортом и дорогами это снижает доступность школьного обучения, тем самым снижая и жизнеспособность деревень. Столь же, если не более опасна для существования деревень и небольших городов «оптимизация» сети больниц (путем сокращения невыгодных «малокомплектных») и даже роддомов, которые вообще нельзя удалять от рожениц. Местные власти теперь требуют прибыльности от больниц и роддомов. По мнению академика В.Л. Макарова1, такая явная ориентации на прибыль означает диктат сугубо предпринимательской идеологии в социальных кластерах, не менее важных для страны, чем предпринимательский. Последствия непродуманности столь серьезных мер могут сказываться еще слишком долго, если вообще когда-нибудь исчезнут. Сами жители таких моногородов (по причинам и материально-экономического, и эмоционально-психологического характера) – против ликвидации города из-за остановки градообразующего предприятия, против переселения их к другим местам работы. В нынешней демографической ситуации при географической протяженности, климатических особенностях и вообще в интересах России как самостоятельного государства вряд ли рациональна утрата населенных мест, имеющих даже не деревенский, а городской статус.
Не вызывает сомнения, что путь концентрации населения вряд ли целесообразен в наших условиях (хотя бы географических) и при нашем менталитете. Эти условия проанализированы специалистами Союза малых городов на основе проведенного в 2009–2010 гг. мониторинга состояния небольших (до 200 тыс. жителей) городов и поселков городского типа. За годы непрерывных реформ страна уже потеряла более 700 небольших городских населенных пунктов. «Депрессивные» мо- ногорода и поселки (ранее образованные, кстати, решениями государственного уровня) имеют реальные возможности и право на жизнь. Они остро нуждаются – в период кризиса и для выведения из него – в государственной поддержке для модернизации существующего градообразующего предприятия либо создания нового, для развития рекреационного, промышленного и других видов туризма и прочих вариантов решения проблемы ВЗ, вряд ли более затратных даже в финансовом отношении, чем переселение жителей. На первый план выступают меры по обеспечению социальной стабильности, выживанию (в буквальном смысле) многих людей. При этом малые, средние города и поселки городского типа в условиях России играют особую, государственно важную геополитическую роль, обеспечивая своего рода контроль над территорией, территориальное и социально-экономическое единство и целостность России, ее национальную безопасность. Пора привлечь к проблеме сохранения и организации ВЗ (а не уничтожения ее как «излишней») пристальное внимание со стороны властных структур.
Для подтверждения кратко рассмотрим в интересующих нас аспектах то, от чего, по мнению директора Института проблем рынка РАН, академика Н.Я. Петракова2, прежде всего, зависит обеспечение интересов России. Это преимущественное развитие конкурентоспособных (или близких к этому) направлений российской науки с обеспечением для них современного уровня оборудования, условий жизни и оплаты труда сотрудников. Это обеспечение военно-промышленной безопасности страны. Это максимальное использование географического положения России. Речь идет о межнациональном инвестиционном проекте российского моста между Европой и Азией со скоростными авто- и железными дорогами, строительство которых простимулирует развитие уральских и сибирских регионов. Это использование экологоэкономических преимуществ России с выращиванием на наших огромных площадях экологически чистой продукции, пригодной для экспорта соответственно международным стандартам. Но для такой стимуляции при решении перечисленных выше проблем также необходимо сохранять «неперспективные» города, поселки и деревни (как и «неконкурентноспособные» – пока что – научные направления), так как без достаточной заселенности обширных площадей выращивать там продукцию будет некому, да и организация государственного и межгосударственного контроля, реальное создание и функционирование евро-азиатского моста и обеспечение безопасности страны будут вряд ли возможны. Президент не случайно недавно заявил, что «нам нужно рассредоточиваться по всей территории страны… Это очень важно и геополитически, и для будущего»1.
Главное – это условия жизни россиян, демографический рост и рост продолжительности жизни. Что касается условий, уровня и качества жизни населения, то здесь главенствует проблема низкой заработной оплаты труда. Первоочередной задачей, безусловно, является рост особенно заниженной оплаты труда большинства занятых в бюджетной сфере (речь не идет, естественно, о высокооплачиваемых чиновниках). По мнению Н.Я. Петракова, такой низкий уровень российской оплаты труда нельзя объяснять, как часто делается, относительно низкой производительностью труда россиян2, т.к. «это довольно странно с социальной точки зрения». Расчеты ошибочности такого «объяснения» уже не с социальной, а с экономической точки зрения были опубликованы нами еще в 1996 г. Тогда мы выявили почти 9-кратное отставание номинальной начисленной заработной платы в РФ (в сопоставимых «паритетных» долларах США) от среднего уровня канадской зарплаты «брутто», а для производительности труда отставание от Канады было уже не в 9, а в 3,7 раза. Отсюда по отношению производительности труда к его оплате, характеризующему степень эксплуатации труда, картина принципиально иная – мы опережали Канаду более чем вдвое. Наши последующие расчеты для Франции, Италии, Японии, США и Германии показали превышение степени эксплуатации труда в РФ в 2,2–3,7 раза. Обоснованность преимущественного роста оплаты, а не производительности труда позднее подтвердил анализ динамики удешевления рабочей силы для работодателей, учитывающий обратное соотношение заработной платы (реальной «с точки зрения предприятия») и производительности труда.
В период кризиса в целом усугубилась сверхвысокая дифференциация доходов населения при фактическом дальнейшем обогащении наиболее богатых слоев российского общества. На это могла повлиять, например, оказываемая в период кризиса щедрая денежная помощь государства и без того не бедным банковским структурам, нередко не доводящим ее вовремя до реального сектора (ради которого эта помощь официально выделялась). Дифференциацию населения по доходам усиливает также обеспечение «инкубаторских» условий крупному бизнесу отсутствием конкуренции и социальных обязательств. При существенном государственном «недофинансировании» сохранения и необходимого развития человеческого капитала России власти одновременно достаточно заботливо относятся к сохранению финансового капитала наиболее богатых слоев населения. Вряд ли в наших условиях дальнейшее приумножение богатства именно этих слоев окажется достаточным для обеспечения государственных интересов России.
Таким образом, если основной задачей вынужденной занятости на микроуровне экономики являлось сохранение рабочей силы для дальнейшего оживления экономики, то теперь, уже на следующем уровне, это лишь подзадача иной, более существенной цели, имеющей первостепенную важность для обеспечения государственных интересов России, – сохранения населения (хотя бы как человеческого капитала страны) и целостности России.