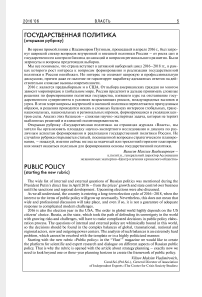Роль законодательства о стратегическом планировании в формировании государственной политики
Автор: Вилисов Максим Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Государственная политика
Статья в выпуске: 6, 2016 года.
Бесплатный доступ
С принятием Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» начал развиваться новый комплексный правовой институт. Это первая попытка в российской истории внедрить столь сложные теоретические структуры в реальную государственную политику и государственное управление. Это отражает наличие определенного политического спроса на институционализацию деятельности по стратегическому управлению. Однако только юридическая консолидация процедур стратегического управления недостаточна для реализации работоспособной системы в рамках реальных политических и административных процессов. Для решения стратегических задач и задач новые институты должны дополнять эту систему.
Короткий адрес: https://sciup.org/170169357
IDR: 170169357
Текст научной статьи Роль законодательства о стратегическом планировании в формировании государственной политики
Ф едеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – закон № 172-ФЗ) ознаменовал новый этап в развитии как современного российского государственного управления, так и политики. В то же время давление внешних обстоятельств, неблагоприятное развитие внутриполитических процессов могут свести на нет столь важное для российской политико-административной системы явление – урегулированное правовым образом стратегическое планирование.
Что же заставляет так высоко оценивать принятие закона № 172-ФЗ? Есть несколько тезисов, раскрытие и обоснование которых и составляют основной предмет настоящей статьи.
Тезис 1. Закон о стратегическом представляет собой системную попытку установить новый правовой институт формирования государственной политики.
Закон о стратегическом планировании возник не на пустом месте и не в одночасье. Фактически весь постсоветский период предпринимались те или иные попытки сформировать правовые основы планирования. Для экономии времени отметим лишь основные правовые вехи.
1. Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» от 20 июля 1995 г.1 явился первым законодательным актом, урегулировавшим, хотя и весьма фрагментарно, вопросы планирования. В процессе его разработки и принятия развернулись жаркие дебаты, в т.ч. и политического характера, поэтому из названия принятого закона были убраны упоминания о планировании (в одной из версий законопроект в названии содержал термин «об индикативном планировании). Явившись результатом политического консенсуса (скорее можно говорить о некоторой патовой ситуации, когда ни одна из сторон не смогла полностью реализовать свои интересы), указанный закон так и не был до конца реализован. Фактически регулярное его выполнение осуществлялось в части прогно-зирования1. Предусмотренные в нем документы стратегического планирования – концепция социально-экономического развития и программа социальноэкономического развития – так и не были приняты в объеме и виде, предусмотренном в законе изначально, хотя попытки их разработать и принять осуществлялись достаточно регулярно (например, в 1999 г.), и в итоге завершились принятием Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года2. В конечном итоге законом № 172-ФЗ этот закон был признан утратившим силу.
2.УказомПрезидентаРФ«ОСтратегиинациональнойбезопасностиРоссийской Федерации до 2020 года» от 12 мая 2009 г.3 была утверждена Стратегия национальной безопасности, отдельными пунктами которой определены параметры и процедуры системы стратегического планирования в РФ. Так, в частности, впервые был дан перечень документов стратегического планирования4, который во много составил основу системы документов стратегического планирования, заложенной в закон № 172-ФЗ 5.
Указанные документы последовательно развивали идеи правового регулирования вопросов стратегического управления и планирования. При этом отдельные вопросы планирования регулировались целым рядом иных, формально независимых и несоподчиненных нормативных правовых актов, в т.ч. Бюджетным кодексом РФ6 и федеральным законом «О государственном оборонном заказе7. В результате возникала несогласованность «политического» и «бюджетного» аспектов планирования, которая привела, по оценкам специалистов Минфина и Минэкономразвития, к тому, что для исполнения обязательств, предусмотренных документами стратегического планирования, потребовалось бы «три бюджета».
Для решения этого сложного клубка противоречий потребовалось политикоправовое решение президента РФ, фактически давшее старт закону N 172-ФЗ. Речь идет об одном из «майских указов» 2012 г.
3. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. «О долгосрочной государственной экономической политике»8 фактически стал прямым поручением правительству РФ «подготовить и внести в до 1 октября 2012 г. в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона о государственном стратегическом планировании, предусматривающий коорди- нацию стратегического управления и мер бюджетной политики». После полутора лет рассмотрения законодателями закон № 172-ФЗ был принят.
Почему данный закон закладывает основы нового правового института?
Во-первых, он дает определение стратегического планирования, охватывая в нем все вопросы классического управленческого цикла: прогнозирование, целеполагание, планирование и программирование1. Во-вторых, он объединяет в рамках стратегического планирования две важнейшие сферы, ранее существовавшие в параллельных плоскостях и даже конкурировавшие между собой, – социально-экономическое развитие и обеспечение безопасности2. В-третьих, он содержит описание системы стратегического планирования3. В-четвертых, он содержит детальное описание как всей системы, так и отдельных уровней документов стратегического планирования4, в т.ч. документов с ранее не вполне определенным правовым статусом [Сулакшин и др. 2012: 13] – посланий Президента РФ, стратегий, основ государственной политики и др.5
Можно сказать, что после принятия закона № 172-ФЗ всегда существовавший разрыв между политическим уровнем целеполагания и бюджетным планированием [Вилисов 2010] был формально преодолен, и все эти отношения были введены в единую сферу правового регулирования, создав новый правовой институт.
Такие преобразования не могли не отразиться на политической сфере, и с этим связан второй тезис.
Тезис 2. Закон о стратегическом планировании является результатом политического консенсуса и продолжительной политической борьбы.
Приведенная выше история становления законодательного регулирования стратегического планирования насчитывает почти 20 лет. В течение этого периода происходило последовательное расширение системности правового регулирования стратегического планирования – от государственного прогнозирования и концепции социально-экономического развития в законе 1999 г. до сложной системы документов стратегического планирования, охватывающей прогнозирование, целеполагание, планирование, программирование и контроль. Изначально потенциал сопротивления даже самóй идее государственного планирования был настолько велик, что из названия принятого в 1995 г. федерального закона «О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития Российской Федерации» слова о планировании были исключены. Попытки вернуться к законодательному закреплению государственного планирования предпринимались и далее. Так, в 2000 г. в первом чтении Государственная дума приняла проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», в котором признавалась необходимость индикативного планирования. В дальнейшем данный проект был отклонен [Суетин 2005].
Аналогичная попытка была предпринята и в 2004 г. Тогда изменения также внести не удалось6.
По результатам опроса автором участников тех событий расклад политических сил вокруг разработки и принятия законодательства о стратегическом планировании выглядел (очень упрощенно) примерно следующим образом: основным проводником идеи выступали представители силовых структур и оборонно-промышленного комплекса, жизненно заинтересованные в наличии системной, целенаправленной и долгосрочной государственной политики, которые группировались вокруг Совета безопасности. Явного оппонента у них не было, в то же время активное, но неявное сопротивление оказывала практически вся политико-административная среда и связанные с ней бизнес-группировки. Невозможность преодоления этого сопротивления и обусловила неудачность всех попыток перейти от «прогнозирования» к «планированию» в период 1995–2005 гг. Ситуацию осложняло также и то, что стратегическое планирование практически никогда не удавалось согласовать с бюджетным планированием, процесс становления которого сначала в качестве новой отрасли законодательства, а затем и ключевого политико-административного процесса как раз активно развивался с 1998 г., проходя принципиально новые стадии развития в нулевых годах (введение трехлетнего планирования, упорядочение различного рода бюджетных программ и пр.). На этом фоне роль финансовоэкономического блока правительства постоянно усиливалась, именно этот блок активно противостоял развитию законодательства о стратегическом планировании – краткосрочное планирование и техническое исполнение бюджета превалировало над долгосрочными целями и институционализацией политических решений, делая практически невозможной осмысленную долгосрочную политику [Вилисов 2010].
Более того, в условиях кризисов роль бюджетного планирования многократно усиливалась: так, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года1 была принята как раз в разгар финансово-экономического кризиса и фактически не могла оказать серьезного воздействия на формирование государственной политики, которая была подчинена решению оперативных задач. Реконструировать эти задачи было чрезвычайно сложно: публичные обсуждения концептуальных основ бюджетов и влияния бюджетного планирования на экономику практически не проводились или были неэффективными [Симонов 2010].
Ситуация кардинально изменилась после принятия в 2009 г. Стратегии национальной безопасности до 2020 года2. Этот документ фактически заложил основы современной системы стратегического планирования, при этом явно обозначив две сферы: сферу национальной безопасности (компетенция силового блока) и сферу социально-экономического развития (компетенция Минэкономразвития и финансового блока правительства), которые фактически и отражали линию разграничения политических оппонентов стратегического планирования. Закрепление Стратегии национальной безопасности указом президента, ее последующая активная реализация, совпавшая с реформой Вооруженных сил, развитием оборонно-промышленного комплекса, вызвали открытое политическое противостояние главы Минфина и президента РФ, закончившееся отставкой министра в сентябре 2011 г. [Глазьев 2013].
В дальнейшем не устранимые публично политические противоречия по поводу стратегического планирования больше не проявлялись, что в итоге привело к принятию закона № 172-ФЗ. Это фактически подтверждается мнением одного из его разработчиков: «Законопроект начали разрабатывать в 2007 году, но до 2011 года он фактически “пылился”, “увяз” в многочисленных обсуждениях. В декабре 2011 года он был внесен в Правительство РФ. В январе–феврале 2012 года рассматривался в Аппарате Правительства РФ. В марте правительство поручило доработать его с учетом предложений аппарата Совета безопасности в части, касающейся взаимоувязки документов стратегического планирования в области социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности, а также разграничения полномочий, функций и задач участников стратегического планирования» [Дементьев 2012].
Тезис 3. Закон о стратегическом планировании имеет большой проектировочный и практический потенциал, его принятие следует признать своевременным и актуальным.
Формат и содержание закона № 172-ФЗ дают все необходимые инструменты для осуществления полного цикла стратегического управления: от прогнозирования к целеполаганию, планированию, программированию, исполнению, мониторингу и контролю. С технократической точки зрения подобная конструкция является идеальной. Впервые в постсоветский период на законодательном уровне объединены политическая (целеполагание), административная (исполнение) и финансово-бюджетная (планирование и программирование) сферы. Существовавшая ранее несогласованность между политическим целеполаганием и бюджетным планированием, а также относительно высокая непрозрачность этих процессов полностью устранены. Фактически это можно признать итогом 15-летней работы нынешней политической команды во главе с В.В. Путиным – ведь именно им было подписано распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 1999 г. N 2021-р, в котором впервые на высоком политико-административном уровне было признано «считать одной из приоритетных задач Правительства Российской Федерации разработку стратегического плана развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу». Можно сказать, что правовое формирование института стратегического планирования на этом завершено.
Эта работа была завершена как нельзя кстати: давление внешних обстоятельств (обострение отношений с западными странами, санкционное давление) в очередной раз заставляют задуматься об определении стратегических приоритетов развития страны. Сложилась уникальная ситуация: созданная система стратегического планирования может быть сразу использована в реальных условиях уточнения парадигм развития страны в связи с существенным изменением внешнеполитической и внутриполитической обстановки. Эта система является легальной и легитимной, объединяет политическую, административную и финансовую сферы, является результатом достигнутого в настоящее время политического консенсуса, имеет необходимые механизмы для участия общественности. Иными словами, созданная конструкция является идеальной для осуществления масштабного политико-государственного проектирования (перепроектирования) для определения будущего развития страны.
То, что такое перепроектирование необходимо, сомнений не вызывает. Конфликт между Россией и западными странами поставил под сомнение возможность реализации стратегии комфортной для России интеграции в западное сообщество. Это означает необходимость пересмотра целого ряда политических, социально-экономических ориентиров, мобилизации, модернизации и ускоренного развития целого ряда экономических, социальных и политических институтов, обеспечивающих возможность самостоятельного и полноценного развития в условиях продолжительного противостояния с западными странами. Речь идет о необходимости формирования нового «образа будущего» для развития страны, который должен стать новым «аттрактором» для переформатирования существующей системы, в отличие от использовавшегося ранее «аттрактора» интеграции в западный мир.
После нахождения нового «образа будущего» система стратегического планирования сможет начать работать в полном объеме: будет сформирована стратегия социально-экономического развития до 2020 г., уточнению могут быть подвергнуты стратегические приоритеты существенной модернизации, перепроектирование можно применить ко многим существующим социальным, экономическим и политическим институтам – кредит политического доверия в настоящее время очень высок. Но начнет ли эта конструкция реально работать на практике?
Тезис 4. Несмотря на то что при разработке закона № 172-ФЗ за основу была взята уже сложившаяся политико-административная практика стратегического планирования, говорить о становлении полноценного политического процесса или института стратегического управления в России пока рано.
Основная проблема, как ни странно, может относиться к сущности сложившейся политико-административной системы и к характеристике актуального политического баланса (консенсуса).
Политико-административная система современной России характеризуется высоким уровнем вертикальной интегрированности, что делает ее пригодной для выполнения четко артикулируемых задач, возникающих на политическом уровне управления. Фактически вся система так или иначе интегрирована в соответствующие формальные государственные или окологосудар-ственные институты: органы власти всех видов, политические партии, государственные научные центры и образовательные учреждения, формирующие экспертное сообщество, государственные компании и банки, являющиеся их основными представителями наряду с лояльными власти российскими бизнес-структурами. Все они в совокупности образуют единую интегрированную политико-административно-финансовую систему [Вилисов 2011: 166-167]. Эта система хорошо решает понятные задачи, в т.ч. реактивные (достаточно оперативное реагирование на кризисные ситуации 2014–2015 гг. это весьма хорошо продемонстрировало), однако плохо справляется с задачами креативными, в т.ч. связанными с переформатированием самой системы. Традиционные бюрократические структуры (типа Министерства экономического развития) такой функции не имеют в принципе, специально созданные институты развития (Агентство стратегических инициатив, открытое правительство и т.п.) уже слишком интегрированы в эту систему и также утратили эту способность. Иными словами, формальных институтов, существующих в политико-административно-финансовой системе, уже недостаточно для того, чтобы они могли выполнять креативную функцию.
Сложившийся политический консенсус характеризуется достигнутым балансом между условно консервативной и условно либеральной частями политического истеблишмента1, среди которых первая сейчас находится в активной позиции, вторая – в оборонительной. При этом российская политическая практика последних 3 десятилетий обычно предполагала, что основным «агентом изменений» являлась именно либеральная часть. Сейчас инициатива по предложению изменений (и их внедрению и реализации через систему стратегического планирования) находится у консервативной части российского политического истеблишмента, которая не имеет ни опыта, ни инструментов, ни институтов разработки «стратегической повестки». Также она не имеет и явных лидеров – как идейно-идеологических, так и политических, не может сфокусировать свои предложения на центр принятия политических решений, обосновать и продвинуть их. Многолетняя последовательная, активная, но в то же время встречающая слишком большое сопротивление в политической среде экспертная и политическая деятельность наиболее выдающихся экспертов этого направления [Глазьев 2002; Глазьев 2013] все же не позволяет сформировать эффективную консервативную политическую силу ни в политической, ни в научно-экспертной, ни в предпринимательской средах.
Еще один важный момент – консервативная часть не имеет явного «аттрактора» (образа будущего) для формирования стратегии развития, в отличие от либеральной части, у которой в этом качестве традиционно была западная модель развития, использование которой в настоящий исторический момент в качестве «образа будущего» по понятным причинам недопустимо. Попытки сформулировать альтернативное видение социально-экономического развития, основанное на национальной или цивилизационной идентичности [Якунин, Багдасарян, Сулакшин 2008], также не нашли пока широкого отклика в политикоуправленческой среде.
В итоге можно констатировать, что вероятность успешного использования новой системы стратегического планирования в сложившихся условиях при инерционном развитии представляется весьма низкой. Существующие институты не способны в короткие сроки выработать новый образ будущего, который станет основой для целеполагания в рамках стратегического планирования. Без этого эффективная разработка документов стратегического планирования невозможна. Инерционный вариант развития событий приведет к бюрократической имитации деятельности на протяжении 2016–2017 гг., затягиванию решения реальных проблем, что при сохранении внешних условий может привести к серьезному политическому кризису на рубеже 2017–2018 гг. вследствие неспособности консервативной части политического истеблишмента предложить новую повестку развития. В результате можно прогнозировать «либеральный ренессанс» и дискредитацию идеи сложно устроенного, институционально определенного процесса стратегического планирования.
Что же можно рекомендовать? Как всегда, в российских условиях целесообразно создать центр выработки целеполагания и образа будущего за пределами сложившейся политико-административно-финансовой системы. Он потенциально способен выработать предложения по образу будущего без влияния существующей конъюнктуры. При этом можно использовать решение, содержавшееся в уже упомянутом распоряжении Правительства РФ от 1 декабря 1999 г. N 2021-р:
«В целях проведения комплексного анализа политической, экономической, социальной обстановки в Российской Федерации и определения стратегии развития страны на долгосрочную перспективу:
1. Считать одной из приоритетных задач Правительства Российской Федерации разработку стратегического плана развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу.
‹…›
5. Согласиться с предложением некоммерческой организации – фонда «Центр стратегических разработок» (далее именуется – Центр) о проведении им работ по подготовке плана»1.
Насколько мы помним, руководителем Центра стратегических разработок в то время был Г.О. Греф, надолго впоследствии определивший вектор реформ и социально-экономического развития страны. Необходимость такого рода решений сейчас становится все более насущной.
***
Пока статья готовилась к выпуску, в политической среде произошло несколько фактов, косвенно подтверждающих правильность сделанных выводов и рекомендаций.
В середине февраля 2016 г. некоторые СМИ сообщили о намерениях Г.О. Грефа создать при правительстве центр управления реформами1. По доступной информации, на совещании у президента Г.О. Греф в присутствии А.Л. Кудрина предложил крупную реформу государственного управления, в рамках которой и предполагалось создание подобного центра. Сам Г.О. Греф на тот момент комментировать подобные разработки отказался2. Уже в апреле появилась информация о том, что А.Л. Кудрин получил предложение занять должность в Центре стратегических разработок – том самом, который еще в конце 1991 г. создавался как «центр реформ» для Г.О. Грефа.
Во время прямой линии 14 апреля 2016 г. В.В. Путин так прокомментировал эту информацию: «Ситуация непростая, он [Кудрин] готов внести свой вклад в решение тех задач, перед которыми стоит страна. Мы договорились, что он более активно будет работать в Экспертном совете при Президенте, может быть, будет одним из заместителей [председателя] этого Экспертного совета. И на площадке одной из эффективно работающих структур, в том числе созданных ранее, может быть, и этого Центра стратегических исследований, будет заниматься вопросами, связанными со стратегией развития на ближайшее время, после 2018 года и на более отдаленную перспективу3».
Возможно, уже в ближайшее время мы будем свидетелями поступления новых материалов для дискуссий о стратегическом планировании в России. Однако исследование содержания возможных программ развития страны выходит за рамки данной статьи – этим вопросам будет посвящен отдельный материал.
Список литературы Роль законодательства о стратегическом планировании в формировании государственной политики
- Вилисов М.В. 2010. Кризис политико-государственного проектирования как причина проблем бюджетного планирования. -Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. № 6. С. 95-97
- Вилисов М.В. 2011. Технологии политико-государственного проектирования российской модернизации. -Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации: материалы 9-й международной конференции. 25-27 мая 2011 г. Ч. 2. М.: Изд-во МГУ. С. 160-168
- Глазьев С.Ю. 2002. Об итогах общероссийской дискуссии о стратегии экономического развития России. -Экономическая наука современной России. Экспресс-выпуск № 1. С. 34-40
- Глазьев С.Ю. 2013. Снова к альтернативной системе мер государственной политики модернизации и развития отечественной экономики (предложения на 2013-2014 годы). -Российский экономический журнал. № 3. С. 3-37
- Дементьев В.В. 2012. Стратегическое планирование -залог успешного развития. -Бюджет. № 7. Доступ: http://bujet.ru/article/193728.php
- Симонов В.В. 2010. Идеология и структура бюджета России как отражение социально-экономической модели России. -Идеология и структура федерального бюджета России как отражение ее социально-экономической модели: материалы научного семинара. Вып. 6(36). М.: Научный эксперт. 80 с
- Суетин Д. 2005. Мифы и реальность индикативного планирования. -Экономика и жизнь. № 02(9060). Доступ: http://www.eg-online.ru/article/118704/
- Сулакшин С.С., Погорелко М.Ю., Вилисов М.В., Малчинов А.С., Нетёсова М.С., Симонов В.В. 2012. Российские доктрины как акты государственного управления. М.: Научный эксперт. 148 с
- Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. 2008. Цивилизационно-ценностные основания экономических решений. -М.: Научный эксперт. 160 с