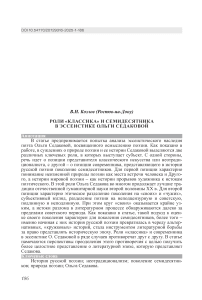Роли «классика» и семидесятника в эссеистике Ольги Седаковой
Автор: Козлов В.И.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка анализа эссеистического наследия поэта Ольги Седаковой, посвященного осмыслению поэзии. Как показано в работе, в суждениях о природе поэзии и ее истории Седаковой выделяются две различных ключевых роли, в которых выступает субъект. С одной стороны, речь идет о позиции представителя классического искусства или неотрадиционалиста, с другой - о позиции современника, представляющего в истории русской поэзии поколение семидесятников. Для первой позиции характерно понимание неизменной природы поэзии как места встречи человека и Другого, а истории мировой поэзии - как истории прорывов художника к истокам поэтического. В этой роли Ольга Седакова во многом продолжает лучшие традиции отечественной гуманитарной науки второй половины XX в. Для второй позиции характерно этическое разделение поколения на «своих» и «чужих», субъективный взгляд, разделение поэзии на неподцензурную и советскую, подлинную и неподлинную. При этом круг «своих» оказывается крайне узким, а истоки разлома в литературном процессе обнаруживаются далеко за пределами советского периода. Как показано в статье, такой подход к оценке своего поколения характерен для поколения семидесятников, более того - именно начиная с них история русской поэзии превратилась в череду альтернативных, «кружковых» историй, стала инструментом литературной борьбы за право представлять историческую эпоху. Роли «классика» и современника в эссеистике О. Седаковой в ряде случаев противоречат друг с другу. В статье намечаются перспективы преодоления этого противоречия с целью получить более целостное представление о литературной эпохе, которую представляет Седакова.
История русской поэзии, неотрадиционализм, поколение семидесятников, природа поэзии, ольга седакова
Короткий адрес: https://sciup.org/149147774
IDR: 149147774 | DOI: 10.54770/20729316-2025-1-186
Текст научной статьи Роли «классика» и семидесятника в эссеистике Ольги Седаковой
The article attempts to analyze the poet Olga Sedakova’s essayistic heritage devoted to the comprehension of poetry. As shown in the paper, Sedakova’s judgments about the nature of poetry and its history emphasize two different key roles in which the subject appears. On the one hand, it is the position of a representative of classical art or a neo-traditionalist, and on the other hand, the position of a contemporary, representing the seventies generation in the history of Russian poetry. The first position is characterized by an understanding of the unchanging nature of poetry as a place where man and the Other meet, and the history of world poetry as the history of the artist’s breakthroughs to the origins of the poetic. In this role Olga Sedakova in many ways continues the best traditions of Russian humanitarian science of the second half of the twentieth century. The second position is characterized by an ethical division of the generation into “their own” and “strangers”, a subjective view, the division of poetry into uncensored and Soviet, authentic and non-authentic. At the same time the circle of “their own” appears to be extremely narrow, and the origins of the fault in the literary process are found far beyond the Soviet period. As shown in the article, this approach to evaluating one's generation is characteristic of the generation of the seventies; moreover, it was from them that the history of Russian poetry stopped trying to give a holistic portrait of the generation. The history of Russian poetry turned into a series of alternative, “circle” stories, which turned into an instrument of literary struggle for the right to represent the historical epoch. The roles of the “classic” and the contemporary in O. Sedakova’s essays are in some cases contradictory. The article outlines the prospects for overcoming this contradiction in order to get a more holistic view of the literary epoch that Sedakova represents.
ey words
History of Russian poetry; neotraditionalism; seventies generation; nature of poetry; Olga Sedakova.
Недавние издания Ольги Седаковой [Седакова 2022; Седакова 2023] собрали существенную часть ее эссеистического наследия и дают хороший повод попытаться прочесть его как целое. У Ольги Седаковой уникальная роль в современной русской поэзии: она привносит в контекст современного литературного процесса масштаб достижений гуманитарной науки второй половины XX в. и очищающий дух живого философствования об истоках поэтического. В этих ролях она редкий читатель поэзии – читатель, способный перепрогово-рить основы явлений. Но когда она выступает в роли современника, человека своего времени, ее стиль меняется – он перестает быть надмирным, погружается в страсти, жаждет справедливости, разит, колеблется. Более того, как кажется, этика поколения семидесятников, ярким представителем которого Ольга Седакова является, определяет рамку ее восприятия истории русской поэзии. И в этом, пожалуй, главное внутреннее противоречие, линия драматизма в картине мира Ольги Седаковой.
Пожалуй, главная интуиция Седаковой – это религиозное понимание традиции «свободного искусства поэзии», то есть искусства уже не церковного, не специально религиозного.
В своем отношении к свободному искусству Седакова оказывается в контексте общей для России и Европы парадигмы неотрадиционализма, согласно законам которого у художника есть обязательства перед искусством и ее традициями, а это значит писать стихи после Хлебникова так, будто Хлебникова не было – «незаконно» [Седакова 2022, 36]. Неотрадиционализм, как пишет В.И. Тюпа, – «одна из трех ведущих линий размежевания поэтической культуры, наступившего после символизма» [Тюпа 2005, 13], объединяющая О. Мандельштама и Т.С. Элиота, М. Цветаеву и Р.-М. Рильке, А. Ахматову и Р. Фроста, И. Бродского и У. Одена. Этой линии противостоят авангард и ангажированное искусство – во всех их проявлениях. К этому разделению еще будем возвращаться не раз, поскольку в эссеистике Ольги Седаковой оно работает.
Художник, по выражению Т.С. Элиота, должен быть готов «выдержать суд предшествующей традиции», в этом парадокс: «все больший и больший круг вещей, чувств, форм становится запрещенным в так называемом “свободном искусстве”» [Седакова 2022, 36]. И это должно как-то сочетаться с «непредвзятостью» и «безоружностью» художника перед своим предметом, при которых оказывается возможным «творение из смыслового “ничто”» [Седакова 2022, 37]. Парадоксальность предпосылок, лежащих в основе неотрадиционализма, – часть его обаяния.
Вот только мир «если не простился, то готов проститься с этим самым свободным творчеством, с поэзией – и прежде всего, с самой идеей вдохновения» [Седакова 2022, 42]. И к этому привел не только цивилизационный кризис XX в., выражающийся как в катастрофах, так и в «тотальной посюсторонности, герметичности современного мира». Мир дошел до точки, когда он готов отказаться от поэзии. Вот это осознание кризисной точки – исходный пункт в размышлениях Седаковой, обосновывающей право ставить последние вопросы. «Быть может, как раз теперь, в этом свете возможного прощания с поэзией, вероятного ее исчезновения мы впервые и можем оценить поэзию как великий дар и задание, которое превышает и “поверхностный смысл” стихов, и даже их глубинный смысл <...> и то, что называют их “формой” или “гармонией”: мы можем теперь увидеть поэзию как дело человека » [курсив автора, если не указано иное – В.К. ], как «то, что делает человек» – и как «то, что делает человека» [Седакова 2022, 43].
Формулируя, что же это за дело, Седакова берет образ Николая Заболоцкого – «целомудренная бездна стиха» – и развивая его, определяет дело человека в поэзии как «дело отношения с чистотой, глубиной и тайной, с волнующим мгновенным присутствием » [Седакова 2022, 44]. Красота здесь – дело второстепенное, она является как результат правильного отношения «с этими вещами». Само пространство этих отношений Седакова называет «областью общения», преодолевающей время и пространство, вообще все границы, а главное – границу между индивидуальным «я» и «я» вдохновения, общим «я», голосом «человечности в человеке», тайны, самой бездны в нем. Точка преодоления всех границ – точка счастья, «дар поэзии <...> – дар счастья, <...> дар памяти об Эдеме» [Седакова 2022, 49–50]. Реконструированный живительный смысл свободной поэзии оказывается у Седаковой религиозным по своей природе. В ситуации кризиса как религиозного, так и свободного искусства Седакова как бы получает моральное право обратиться к более глубокому и неисчерпаемому источнику, в котором начала человеческого мышления неотделимы друг от друга.
У этой большой мысли много ответвлений – например, в эссе «Искусство как диалог с дальним», в котором оказывается, что искусство с дальним про- делывает примерно то же, что христианство – с ближним. «Тот, кто входит в общение с искусством, кто открывает эту бутылку с письмом, понимает, что он не одинок: его вводят в некую общность, которая необозрима, которая тянется веками – и которая каждый раз, как вновь, создается на этом самом месте» [Седакова 2022, 77].
К теме кризиса современного мира Седакова обращается не раз – например, в эссе о «Золотом петушке» Пушкина. Казалось бы, «в новой либеральной цивилизации авторов не приговаривают к смерти за стихотворение или холст», казалось бы, «личное самовыражение (в том числе артистическое) никогда не было так мало ограниченно, никогда так не поощрялось», однако «в этом-то обществе искусство само заявляет о своей смерти» [Седакова 2023, 76]. Как же это объяснить? Что за деспотичная власть, признаки которой мы привычно ищем за каждой проблемой, не дает реализоваться поэзии? На этот раз ответ Седакова дает несколько иначе: «...это власть всеобщей изоляции, изоляции и защиты от другого, которая кончается самочувствием герметичного одиночества, непроницаемости нашего существования для чего бы то ни было Другого»; «и эта крепость, построенная для всего непредвиденного и нежелательного, оборачивается тюрьмой» [Седакова 2023, 77]. А значит, самая актуальная задача искусства – «разгерметизирование общества, истории, человека, пробивание окна в глухой стене нашей цивилизации – вида на мир . Вида на счастье, а не на избегание несчастья» [Седакова 2023, 78]. И опять же, этот вид открывается через поэзию, антропологический опыт которой есть «опыт человека невероятного, homo impossibilis , встречающего в себе не столько “другого, неведомого себя”, “моментальную личность”, <...> сколько чистое согласие исчезнуть <...> – на пороге, в начале, в обещании чего-то совершенного иного, что он узнает при этом как предельно родное » [Седакова 2022, 206]. Или в другом месте: «Вероятно, нет ничего бесстрашнее, радикальнее, свободнее, чем решиться быть похожим на того человека, которого <...> еще не было. Который <...> говорит с нами в каждом стихотворении, которое удалось» [Седакова 2006, 414].
Эта ситуация встречи «я» и «другого», событие и пространство ценностной встречи – центр метафизики Седаковой, камертон для всех остальных идей. Невозможно не отметить очевидной связи этого центра к ключевой идеей работ М.М. Бахтина 1920-х гг., в которых впервые разработана концепция художественного мира произведения как события и места встречи разных «ценностных контекстов» [Бахтин 1994, 73–89]. Отметим и то, что эта концепция встречи, положенная в основу литературоведческого подхода к анализу поэтики, может быть истолкована и в русле христианской мысли, что для Седаковой, безусловно, важно.
Седакова находит некое абсолютное, неподверженное эволюции, но вечно новое ядро поэтического. В некотором смысле оно противостоит не только той конкретной современности, которую представляет она сама, но и всякой современности. Это понимание поэзии для Седаковой сближается с понятием «классики» – начала поэзии, неизменного от Данте до Бродского. А отсюда – сюжет, который проходит через ее эссеистику красной нитью – судьба «классики в неклассическое время», которое на фоне классики неизбежно превращается во «время беззакония» [Седакова 2023, 380].
Мысль о классике противоположна популярному сегодня представлению о принципиальном многоязычии поэзии, о бесконечном разнообразии художественных практик. По логике Седаковой, если за множеством языков не про- свечивает суть поэтического, то цена такому разнообразию невелика, а если просвечивает – то многообразие преображается, оказываясь многообразием путей к единому – к «классике».
Нужно сказать, что Седакова дает совершенно другой ответ на кризис современности, чем тот, который дают ряд представителей ее поколения в поэзии (например, М. Айзенберг, О. Юрьев), для которых поэзия нового времени должна изобретаться заново по той причине, что весь фонд старых форм оказался дискредитирован, оккупирован, национализирован и т.д. [Айзенберг 2005, 27]. Для Седаковой существо поэзии противостоит понятию формы – это скорее состояние, экзистенциальный опыт, уподобляемый мелькнувшей молнии. И понимание новизны в этом опыте совершенно неформальное, лишающее смысла акцент на эксперименте с формой. «Новизна» у Седаковой – это новизна Нового завета (см., например, эссе «“И жизни новизна”. О христианстве Бориса Пастернака»), весть, которая уже пришла в мир, но еще не принята им. Эту новизну не надо изобретать, создавать заново – ее надо осознать.
Поднявшись на эту высоту обобщений, самое сложное – найти адекватный ей язык суждений о самом ближнем – и о поэтических текстах, в частности.
Сегодня Ольга Седакова – ключевой для поколения поэтов-семидесятников апологет искусства, вооруженный для этого тем, чем большинство из ее современников вооружены не были. Ее роль в поколении отличается принадлежностью к той передовой по любым меркам российской гуманитарной школе, наследие которой у нас не вполне еще осознано. Седакова училась под руководством академика Н.И. Толстого, затем – крупного лингвиста и культуролога Вяч.Вс. Иванова, много лет вела переписку с выдающимся философом и переводчиком В.В. Бибихиным, слушала курс «Византийской эстетики» филолога-классика С.С. Аверинцева в 1969–1971 гг. С этого курса, как признается Седакова, для нее началась «новая жизнь» [Седакова 2020, 16], погружение в христианскую культуру, долгая история отношений, итогам которой стал написанная ею первая творческая биография Аверинцева. Седакова оказалась подключена к гуманитарной и религиозной мысли высшего масштаба во всех своих ролях. Для поэзии в целом это редкая история, а для поэзии семидесятников, существовавшей в удушливой атмосфере подполья – пожалуй, исключительная. Роль поэта оказалась дополнена ролями исследователя, переводчика, эссеиста, просветителя. Эта роль в последние десятилетия у Седаковой работает не столько на производство новых поэтических текстов – кажется, ее томик стихов сложился уже к началу нулевых, – сколько на «мысль о поэзии», которую не может себе позволить ученый, но может позволить поэт. Опора этой мысли на русскую гуманитарную школу дает не только широкий культурный контекст, но нужные высоту и глубину интуициям. Такова, пожалуй, исключительная роль Ольги Седаковой в российском литературном контексте.
Заметим и то, что большинство эссе представляют собой тексты публичных выступлений, география которых впечатляет. В Страсбурге, Римини, Вене и Брегенце она говорит о Пушкине, в Милане – о Цветаевой, о поэзии своего поколения на конференциях в Минске, Москве, ей заказывают главы о русской литературе в книги славистов во Франции, Великобритании, Италии. Ольга Седакова в прямом смысле слова представляет русскую культуру в мире.
Но у Ольги Седаковой есть и другая роль, которую она сама подчеркивает. Она – «действующее лицо» части истории русской поэзии, лицо принципиально субъективное: «Я не принадлежу – и никогда не принадлежала – ни к одному из разнообразных направлений и школ нашей современной поэзии»
[Седакова 2020, 16]. Сама эта установка на частность роднит Ольгу Седакову с ее поколением в поэзии – поколением семидесятников. Это поколение гораздо хуже описано, чем поколение «шестидесятников», но сама Седакова осмыслению поколенческого коллективного портрета отдает немало сил. При этом Седакова, предстающая как семидесятник, – это несколько другая Седакова. Пристрастная, всегда имеющая право на особое мнение. Иногда кажется, что две ценностные позиции поэта плохо уживаются друг с другом, не вполне слышат друг друга.
Когда Ольга Седакова судит о современниках, об истории русской поэзии, главным мотивом ее размышлений оказывается разлом внутри поэзии, разлом на подлинное и неподлинное – разлом масштаб которого таков, что кризис современности лишь его закономерный итог.
Атмосферу своего времени она характеризует как «серый литературный террор», для которого автор не может найти «содержательных причин». «...Кажется, наше поколение первым столкнулось с такой ситуацией, когда не идеи, не политические взгляды, не что иное – а одаренность сама по себе оказалась политически нежелательным явлением » [Седакова 2023, 487]. «Если кто, например, не подходил из-за “религиозности” – то другой кощунствовал и тоже не подходил. Кто-то из-за “заумности” – а кто проще простого... Так и прожили те, чей дебют должен был прийтись на середину 1960-х – начало 1970-х годов. Лишенные всякой встречи с открытым читателем, лишенные даже критики и обличений и права быть упомянутыми публично» [Седакова 2023, 493].
Для Седаковой это не просто социальный фактор. Замкнутость лирика в частном быту лишает поэзию того, что свойственно ей от природы – высокого, большого стиля. «“Вторая культура”, которую создали замолчанные поколения, не дает ни большого стиля публичной жизни “среди чужих”, ни большого стиля одиночества. Это более или менее пространный круг “своих”, а дурнее среды для творческого развития не придумаешь» [Седакова 2023, 494].
Безусловно, для людей, формировавшегося в этих условиях, находятся и высокие слова: «Я назвала бы их радикально освободительным поколением, людьми героического нонконформизма, ищущими самой серьезной (не политической только, а то и вовсе не политической) основы для личной независимости, для “самостоянья человека”» [Седакова 2023, 440].
У этого поколения с культурой сложились особенные отношения: «На Западе свергали культуру: культуру как часть истеблишмента, как одну из “репрессивных структур”. У нас же, в обществе победившей контркультуры, все было наоборот: оттуда, из картинных галерей, из филармонических залов, из библиотек веял воздух свободы» [Седакова 2023, 440]. И еще важное: «Западное бунтарство было, естественно, антиклерикальным и богоборческим: и церковь, и всякая религиозная традиция тоже представлялись там “репрессивной структурой”, угнетающей личность. Освобождающегося человека в России в те годы посетило какое-то совершенно особое религиозное вдохновение, вне-церковное и внетрадиционное вообще: “идеализм”, как они часто это называли <...> Это была стихийная анархическая религиозность, возможная только там, где всякая традиция выжжена» [Седакова 2023, 440–441].
Исток разлома Седакова обнаруживает еще в XIX в. – в творчестве Некрасова: «Подлинной наследницей некрасовской (а не пушкинской или пастернаковской) “прозы” стала советская поэзия 1930–1970-х годов» [Седакова 2023, 215]. Тут даже дело не в том, что «лирическую композицию сменили прозаический принцип фабульности и песенные структуры», а «тонкую сти- листическую работу предшественников вытеснило внимание к смыслу (проза) и эмоциональности (песня), к “ударному” слову» [Седакова 2023, 216], а в том, что «третьего пути – не жертвенной гибели и не пошлого наслаждения – пути “тайной свободы” творчества и высокого мира с действительностью... некрасовская школа не знает» [Седакова 2023, 224]. Влияние Некрасова оказалось тотальным и выходящим далеко за пределы «идейной литературы». Именно этот поэт, по мысли Седаковой, осуществил «эмоциональную секуляризацию культового слова», построил «эрзац-религию» «Народа, Родины, Матери, Страдальца за народ» – и это ровно та же поэтика, в которой написан гимн СССР. И как итог: «Различия направлений в советской поэзии можно определить как различия внутри некрасовской школы» [Седакова 2023, 232].
Это не предел глубины в разысканиях истоков разлома. В эссе «Другая поэзия» (1996) Седакова развивает гипотезу о том, что советская поэзия «вышла из позднего фольклора: точнее, она из него не вышла» [Седакова 2023, 464]. Это «выродившийся фольклор», который взял из книжной традиции самые общие и ходульные выражения, поскольку одаренность его автора должна выражаться в умении «найти среди общих мест наиболее эффектные общие места» [Седакова 2023, 466]. А коль так, то «описать советскую поэзию – значит описать ее темы» [Седакова 2023, 467]. «В этом оформлении тем эффектными, но заведомо известными аудитории средствами нет всего, что происходит с человеком наедине, в глубине личности, в ее свободе» [Седакова 2023, 469].
В раннем эссе, посвященном прежде всего Леониду Губанову (1984), Седакова приводит сценку, в которой сама поначалу осуждает человека за то, что он «горя не знал», а потому «с жиру бесится» – но тут же ловит себя на стереотипе, на упоенности обидой, которая как бы позволяет человеку вычеркивать из жизни все излишнее на том лишь основании, что ему выпала доля без всего этого обходиться: мол, мы как-то обходились, и ничего – обойдетесь и вы. «Но в оголенном от “лишнего” существовании нет культурного творчества», поправляет себя Седакова [Седакова 2023, 489]. А значит права на «лишнее», права на культуру – неоспоримы. Казалось бы, Седакова разомкнула ловушку, в которую угодило ее сознание – но тут же возвращается в нее: «Нет, в оби-женности своей обидой, несмотря на существование других, и горших, чужих, все-таки есть что-то человеческое, что-то обнадеживающее» [Седакова 2023, 489]. От этой обиды нельзя просто отказаться, потому что это – пульсирующая точка. Седакова постоянно возвращается к ней, прислушивается к исходящим из нее волнам – и заново говорит о времени, которое ей выпало представлять. И не только о своем времени.
Зараженность русской поэзии в картине мира Ольги Седаковой оказывается тотальной. Классическая «мысль Пушкина», которая, как и пребывание в «целомудренной бездне стиха», есть «не работа с некоторым предметным содержанием, а особого рода состояние жизни» [Седакова 2023, 43], «не унаследованное русскими поэтами» [Седакова 2023, 41].
«Как писать историю русской литературы после Октября?» – задается вопросом Ольга Седакова. На этот вопрос она дает непрямой ответ, вернее она дает на него ответ всей эссеистикой.
История русской литературы, какой ее видит Ольга Седакова, состоит из прорывов к «классике», прорывов через омертвевшие напластования разного рода современности. Мерцание классики – у Хлебникова, Мандельштама, Заболоцкого, Пастернака, Ахматовой, Бродского... С одной стороны, она берет на себя роль хранителя высокой традиции, умеющего различать ее неочевид- ный след, восстанавливающего преемственность. А с другой... – как же узок их круг! Казалось бы, разлом, о котором говорит Седакова, нужен был ей для «различения Суркова и Ахматовой», но проваливается в этот разлом значительно больше – существенная, если не большая часть русской поэзии XX в. И как видим, «до Октября» этот ракурс тоже применим.
Кажется, что логика того преображающего человека вечного истока поэзии, который увидела Ольга Седакова, должна предполагать какой-то иной взгляд на литературный процесс. Взгляд, позволяющий увидеть разнообразие форм этой заветной ситуации ценностной встречи. Но его главным результатом становится именно разлом, готовность решительно отделять литературные зерна от плевел.
Разлом, который прочерчивает Ольга Седакова по всей истории русской поэзии, как кажется, является не столько индивидуальным, сколько коллективным образом эпохи, которую она представляет. Этот разлом принципиален, поколение семидесятников никогда не откажется от него. В его основе, по сути, этический подход к литературному процессу. Наверное, сложно отрицать право поколения на этот взгляд, однако трудно не увидеть его условностей.
Отметим, что надо обладать колоссальной уверенностью в своей правоте, чтобы принципиально отказать чьей-либо поэзии в благословенности, в отсвете преображающего начала. Ведь разглядеть это начало в другом, казалось бы, и означает понять другого. И если мы признаем наивысшей ценностью готовность к другому (в том числе – Другому), открытость ему, то как же мы можем в то же самое время допускать наличие других, в которых нечего понимать? Разве не оказываются в таком случае невозможными понятия «серой», «некрасовской» и какой-либо поэзии в значении ничтожной, если мы верим в силу преображающего поэтического слова?
В Ольге Седаковой это как-то уживается – уживается как «невозможное начало человека» с возможным, слишком человеческим. Сама Седакова предвидела критику такой позиции с точки зрения прогрессиста, принимающего и уравнивающего самые разные проявления современного искусства. Но критика пришла с другой стороны – с позиции «классика», которую сама же Седакова и обозначила в своих глубочайших интуициях о природе искусства.
В отечественной филологии уже давно показано, что изучение конкретных традиций поэзии и индивидуальных траекторий разрушает выстроенную стену между неподцензурной, «другой», «второй» и той поэзией, которая могла появляться в печати, но часто с большим опозданием, часто частично. Безусловно, изучение этих традиций показывает разницу между поэтами и традициями, но она всегда оказывается не там, где изначально была возведена непроходимая стена внутри истории русской поэзии.
Российский литературно-критический XIX в. показал, что философско-эстетические критерии искусства (субъективность, универсальность, народность и т. д.) очень сложно перевести на язык поэтики произведения, а это означает, что эти категории не столько помогают читать поэтический текст, сколько навязывают ему свою собственную логику, по сути, скрывая мир произведения от читателя. С этим во многом и был связан бунт формалистов, которые предпочли философствованиям иную крайность – научный анализ языка произведения. М. Бахтину одному из первых в отечественной филологической традиции удалось свести в единую модель эстетику и поэтику литературного произведения. Как уже указывалось выше, в своей главной мысли о природе поэзии Ольга Седакова напрямую с Бахтиным перекликается. Но там, где дол- жен был бы произойти переход к поэтике, органично связанной с заявленной эстетикой, мы видим скорее обрыв одного разговора и начало другого, ведущегося на общем языке своего поколения. Язык семидесятничества не только позволяет, но и обязывает судить о том, кому быть в истории поэзии, а кому нет. Из философской интуиции, не дающей возможности ее измерить или верифицировать, каким-то образом на выходе рождается четкое предзаданное разделение поэзии на советскую и неподцензурную – разделение, которое стремится стать аналогом разделения на подлинное и неподлинное, но которое на самом деле никогда им не станет.
Вопрос этот можно было бы счесть слишком надуманным, если бы не популярность темы неподцензурной поэзии или «второй культуры» в последние годы, установки на создание альтернативных историй русской поэзии второй половины XX в. [см, например Кукулин 2019; Ленинградская хрестоматия 2019; История русской поэзии https]. Именно начиная с семидесятников в осмыслении опыта поэтических поколений произошла смена оптики: попыткам понять культурный код поколения в целом оказалась противопоставлена конкуренция поколенческих мифов, сконструированных сообществами. «Шестидесятники» были явлением целостным, семидесятники очерчивали свои границы, во многом препятствуя осмыслению поколения как целого. Поэтому на месте истории русской поэзии второй половины XX в. сегодня мы имеем преимущественно историю сообществ – «лианозовская школа», питерская «филологическая школа», «ахматовские сироты», ленинградская «вторая культура», группы СМОГ и «Московское время», метареалисты, концептуалисты, «куртуазные маньеристы», «поколение Вавилона» и т.д.. Как правило, в результате такого подхода более всего страдает именно линия, связанная с неотрадиционализмом, которая менее всего ассоциируется с «актуальностью», кружково-стью, формальными и междисциплинарными экспериментами. Линия, которую развивает Ольга Седакова как семидесятник, вступает в прямой конфликт с линией, которую она задала как «классик».
Тот подход, который задали осмыслению литературного процесса семидесятники, последовательно выдает часть за целое и используется с тех пор как важнейшее орудие литературной борьбы. Борьба ведется в том числе за присвоение ключевых фигур литературного процесса. Конструирование «кружкового» мифа о поколении, как правило, ведется «действующими лицами», представителями сообщества либо его прямыми наследниками, это действие – реализация литературной борьбы, главная задача которой – обеспечить выживание группы в истории литературы.
Понимая этот контекст, можно напомнить, что правомерен и иной подход к поколению – подход, освобожденный от контекста литературной борьбы. Этот подход давно известен отечественной филологии, он иллюстрируется, например, классическим трудом С.С. Аверинцева «Ранневизантийская литература». Если к осмыслению эпохи семидесятых добавить классический анализ всего «текста поколения», представление о ней будет существенно дополнено – но пока это работа будущего.
Определение «советского» не должно работать как клеймо, расчелове-чивающее автора. Предпосылки к этому есть, например, в концепции «поэзии Среднего», сформулированной одним из основателей журнала «Кварта». «Поэзия Среднего» – это «(нео)советская линия» русской поэзии, «главное здесь – определенная замкнутость в этом «среднем мире», заранее предрешенная неспособность выйти из него» [Агрис 2022]. То есть «советская поэзия»
не только началась в фольклоре и у Некрасова – она до сих пор с нами. Идея обрушить очень простое, пришедшее из области философской эстетики разделение на сложную картину поэзии оказывается привлекательной. Подобный подход пробуждает довольно низменные инстинкты заменять исследовательскую повестку обнаружением и разбором «признаков среднего» у авторитетов с позиции превосходства. А поле поэзии устроено гораздо сложнее, понимание многообразия традиций и их переплетений требует несколько другого инструментария.
Список литературы Роли «классика» и семидесятника в эссеистике Ольги Седаковой
- Агрис Б. Поэзия Среднего // Кварта. 2022. № 2 (4),. URL: http://quartapoetry.ru/die_mitte/ (дата обращения: 01.03.2025).
- Айзенберг М. Оправданное присутствие. Сборник статей. М.: Baltrus; Новое издательство, 2005. 212 с.
- Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Работы 20-х годов. Киев: Next, 1994. С. 69-256.
- История русской поэзии. URL: https://polka.academy/projects/923 (дата обращения: 01.03.2025).
- Кукулин И.В. Прорыв к невозможной связи. Статьи о русской поэзии. Екатеринбург. М.: Кабинетный ученый, 2019. 696 с.
- Седакова О.А. "И жизни новизна". Об искусстве, вере и обществе. М.: Никея, 2022. 528 с.
- Седакова О.А. О русской словесности. От Александра Пушкина до Юза Алешковского. М.: Время, 2023. 604 с.
- Седакова О.А. Сергей Сергеевич Аверинцев. Воспоминания. Размышления. Посвящения. М.: Свято Филаретовский православно христианский институт, 2020. 328 с.
- Тюпа В.И. Литература и ментальность. М.: Юрайт, 2018. 231 c. EDN: ZTFTOR