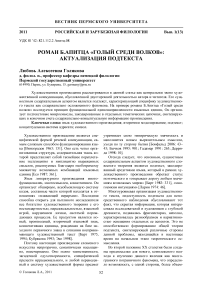Роман Б.Апитца «Голый среди волков»: актуализация подтекста
Автор: Голякова Любовь Алексеевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 1 (13), 2011 года.
Бесплатный доступ
Художественное произведение рассматривается в данной статье как центральное звено художественной коммуникации, обусловленной двусторонней деятельностью автора и читателя. Его сущностным содержательным аспектом является подтекст, характеризующий специфику художественного текста как содержательно осложненного феномена. На примере романа Б.Апитца «Голый среди волков» исследуется принцип функциональной единонаправленности языковых единиц. Он организует подтекстовые микросмыслы, закодированные в отдельных тематических цепочках, синтезирующих в конечном счете содержательно-концептуальную информацию произведения.
Язык художественного произведения, вторичное моделирование, подтекст, концептуальная система адресата, символ
Короткий адрес: https://sciup.org/14728973
IDR: 14728973 | УДК: 81'42:
Текст научной статьи Роман Б.Апитца «Голый среди волков»: актуализация подтекста
концептуальная система адресата; символ.
Художественное произведение является специфической формой речевой коммуникации, самым сложным способом функционирования языка [Виноградов 1963: 131]. Оно есть четко организованная структура, содержательная ткань которой представляет собой теснейшее переплетение эксплицитно и имплицитно выраженных смыслов, реализуемых благодаря необозримому множеству возможных комбинаций языковых единиц [Eco 1987: 361].
Язык литературного произведения многофункционален, многосмыслен, коннотативен. Он организует обширную, всеобъемлющую систему кодов, составные части которой находятся в отношениях «плавающей иерархии». Последняя способна открыть для пытливого исследователя все богатство художественного творения с его нестандартностью, парадоксальностью, языковой игрой, нарушением логики, системой порождающих процессов. Ее продуктом является новый, производный, вторичный языковой знак, коннотативная единица, рожденная на базе исходного первичного знака в сознании воспринимающего художественный текст [Барт 1975, 1994; Кубрякова 1993; Эко 1998].
Поэтому настоящее произведение словесного искусства непрозрачно, семантически насыщенно, неисчерпаемо. Оно полно таинственности, загадочной одухотворенности, специфической прелести иррационального, и любой перенесенный в систему художественной формы предмет утрачивает свою эмпирическую значимость и наполняется новым выразительным смыслом, уходя по ту сторону бытия [Бонфельд 2006: 43– 45; Бычков 1995: 901; Гадамер 1991: 263; Деррида 1998: 10].
Отсюда следует, что основным, сущностным содержательным аспектом художественного словесного творения является подтекст, закодированный средствами языка, который в рамках художественного произведения обретает статус поэтического и «открывает дорогу любым значениям возможных миров» [Барт 1983: 331], «многоемким интуициям» [Ларин 1974: 46].
Многоуровневая организация художественного текста, недоступность подтекста для непосредственного наблюдения обусловливают тот факт, что скрытая информация, которая интересовала исследователей и художников с глубокой древности, подавалась фрагментарно, неполно, характеризовалась разнообразием и вариативностью освещения отдельных ее аспектов. Это не способствовало формированию общей теории подтекста, синтезирующей различные стороны данной проблемы, находящейся в настоящее время на начальном этапе теоретического осмысления.
Во второй половине ХХ столетия были созданы предпосылки для нового, комплексного подхода к изучению данного явления как многогранного пограничного феномена, что определило возможность, с одной стороны, более объем-
ного, многоаспектного его постижения, с другой – осознания неисчерпаемости проблем и вопросов, возникающих при исследовании подтекстового смысла.
Возросший в настоящее время интерес к недостаточно исследованным вопросам множественных вторичных смыслов текста как к проблеме междисциплинарной позволяет раздвинуть границы толкования языкового знака в процессе его функционирования в художественном произведении, выявить его вторичные смыслы и сверхсмыслы, формировать конструктивное направление интерпретации художественного текста (декодирования подтекстового смысла), синтезирующее и интерпретирующее парадигмы научного знания, концентрирующее внимание на возможностях нового, семантического [Бенве-нист 1974: 86–88], означивания фактов.
Активный исследовательский поиск в общенаучном методологическом контексте междисциплинарного уровня, имеющий семиотические обоснования, обусловливает представление художественного произведения не как типовой конструкции текста, анализ которого ограничивается жесткими доказательствами, описанием его структурно-семантического единства на уровне первичной номинации языковых единиц. Художественное произведение, строение которого является малоизученной комбинацией «дост-руктурной», «структурной» и «сверхструктурной» данности [Лосев 1994: 214, 216, 220], рассматривается как феномен искусства, как малоизученный эстетический объект, источник импульсов, специфическая смысловая структура со сложнейшей игрой языковых знаков вторичного уровня [Sotting, Müller 1998: 122, 125].
Исследователи, занимающиеся изучением художественного текста, все чаще убеждаются в том, что ключевым моментом в вопросе его анализа является уяснение характера связей между его знаковой стороной и тем смысловым содержанием, которое проступает сквозь сочетание и сплетение слов, фраз и словесных комплексов [Ларин 1974: 10].
В связи с этим достойным внимания представляется роман Б.Апитца «Голый среди волков» (Bruno Apitz “Nackt unter Wölfen”, 1965), на примере которого детально исследуется один из принципов функционирования языковых единиц – принцип их функциональной единонаправлен-ности. Он организует подтекстовые микросмыслы, закодированные в отдельных тематических цепочках, нацеленных на создание различных образов, но и синтезирующих в конечном счете единый концепт произведения (см. подробнее о принципах: [Голякова 2007: 21–22]).
Краткое содержание романа сводится к описанию противостояния двух противоборствующих сторон – фашистской и антифашистской – в конце войны, от исхода которого зависит судьба еврейского ребенка, который случайно попадает в концентрационный лагерь Бухенвальд. В структуре художественного текста важная роль отводится заголовку как носителю определенной авторской идеи, закодированного концепта, декодировать который можно лишь на основе прочтения всего произведения, в результате ретроспективного соотнесения отдельных его частей. Поэтому первоначально заглавие воспринимается исключительно как содержательно-фактуальная информация [Гальперин 1981: 27, 28], передающая прямое значение на уровне первичной номинации.
Роман насыщен яркими, емкими, колоритными образами, искусно созданными автором. Особенно выразительно изображена группа эсэсовцев, непосредственно принимающих участие в поисках ребенка, в руках которых сосредоточена неограниченная власть над судьбами и жизнями десятков тысяч заключенных.
Любопытен тот факт, что четкая иерархия рангов и должностей отражает и своеобразную духовную градацию фашистов: от самых жалких и никчемных низов, исполнителей приказов, до рафинированных мерзавцев, которые возвели себя на пьедестал почета, уважения и преклонения перед их мнимыми достоинствами.
Буквально на самых первых страницах романа появляется гауптшарфюрер Райнебот, одна из центральных и, пожалуй, самых колоритных фигур произведения. Обращает на себя внимание его самая первая характеристика:
Der eitle Jüngling liebte seine elegante Erschei-nung sehr. Ein rosiger Hauch auf der Haut und die wie gepudert erscheinende Unterpartie des Gesichts, auf der auch nicht der Schimmer eines Bartwuchses zu sehen war, gaben Reineboth das Aussehen eines Operettenbuffos, doch war er nur der gewöhnliche Sohn eines gewöhnlichen Bierbrauers (45)1.
Сразу бросается в глаза антитеза, подчеркивающая явное несоответствие тщеславной, высокомерной манеры поведения молодого человека его происхождению, той среде, из которой он вышел.
Благодаря этому приему в сознании читателя эксплицируется скрытый смысл: авторская ирония, низводящая Райнебота с пьедестала позерства и самолюбования, формирует у воспринимающего текст первое, весьма неблагоприятное, впечатление о нем.
Страницы, посвященные Райнеботу, просто перенасыщены мелкими, повторяющимися дета- лями, которые контактно и дистантно перекликаясь, дополняют друг друга, образуют тематическую цепочку, концентрированно воздействуют на адресата, направляя поиск скрытого смысла, активизируя с каждым последующим включением языковой единицы в предыдущий подтекст: …lässig im Stuhl zurückgelehnt, winkte hochmütig ab, lässig baumelte er mit dem aufgeleg-ten Bein, der arrogante Jüngling, mit verbindlichem Hohn, spöttend, sagte geschmeidig, warf lässig zu, zynisch, Reineboths lässiger Jargon, er erhob sich, elegant und geschmeidig, hohnvolles Gesicht, das Aalglatte seines Wesens.
Повторяющиеся в разных контекстах языковые единицы lässig, zynisch, hohnvoll, arrogant , накладываясь на фоновые знания читателя, эксплицируют определенный глубинный смысл. В результате их функциональной единонаправлен-ности на создание единого образа у адресата складывается четкое представление о том, кто перед ним: заносчивый, гордый, насмешливый, франтоватый, дерзкий, язвительный и самовлюбленный молодчик, к тому же еще и циник, и позер, выставляющий напоказ свои вальяжные щеголеватые замашки, а также умственное и физическое превосходство.
Такая мания величия обычно объясняется неким скрытым комплексом неполноценности, который тщательно маскируется высокомерным поведением и безграничным презрением ко всему окружающему. В данном случае читатель мысленно возвращается к ранее прочитанному, его фоновые знания соотносят новую информацию с предыдущими лингвистическими микроконтекстами, напоминая о социальном статусе Райнебота: он всего лишь обычный сын самого обычного пивовара. Райнебот не принадлежит к элитной верхушке сильных мира сего, хотя и наделен весьма благополучной внешностью и умением держаться. Поэтому он пытается возвысить себя в глазах окружающих, вызвать в них уважение и восхищение своими весьма сомнительными достоинствами и тем самым самоутвердиться в своих собственных.
Оторванная от общего лингвистического контекста, данная информация не сообщала бы читателю ни о чем, кроме как о внешней стороне поведения человека. Но в процессе знакомства с Райнеботом эта фактуальная информация, накладываясь на вертикальный контекст читателя и коррелируя с описанным ранее, значительно усиливает первое о нем впечатление.
Явно бросаются в глаза многочисленные, рассыпанные по тексту повторы слов das Lächeln и lächeln с различными определениями, характеризующимися семантической общностью, состав- ляющими одну тематическую группу: Sein stets so arrogantes Lächeln, lächelte arrogant, meinte mit mokantem Lächeln, lächelte mokant, lächelte zy-nisch an, setzte ein überlegenes Lächeln auf, hatte ein mokantes Lächeln aufgestreckt, süffisant gelä-chelt.
В своей номинативной функции языковые знаки das Lächeln и lächeln содержат положительный семантический компонент хорошего настроения и позитивных эмоций. Улыбка способна преобразить человека самым необыкновенным образом: она украшает, завораживая окружающих и заряжая их бодростью и энергией.
Совсем иное впечатление производит надменная, дерзкая, самодовольная и насмешливая улыбка, сводящая на нет все расположение к ее обладателю и вызывающая чувство неприязни и внутреннего дискомфорта. А уж когда эту улыбку в зависимости от ситуации «строят» или искусственно «растягивают», то пропадает всякое желание лицезреть такого человека.
Предметно-логическое значение глаголов auf-strecken и aufsetzen нейтрально. Но в данном микроконтексте в сочетании со словами das Lä-cheln и lächeln они негативно окрашивают весь микроконтекст, в результате чего рождается определенная подтекстовая информация: эта улыбка неискренна, наигранна, а значит, ее обладатель двуличен и лицемерен.
Таким образом, контактные и дистантные повторы слов das Lächeln и lächeln в сочетании с оценочными элементами становятся доминирующей чертой и непременными атрибутами поведения Райнебота. Используя такую комбинаторику языковых единиц, порождающую вторичные смыслы, автор реализует свою прагматическую установку: дать толчок к формированию оценки читателем сущности гауптшарфюрера Райнебота, лицемерие которого повергает в смятение и порождает смутное, безотчетное чувство тревоги.
Далее рассредоточенные по всему роману семантически близкие языковые знаки начинают коррелировать с концептуальной системой читателя по принципу нагнетания, вызывая у него гамму эмоций, ощущений и ассоциаций, благодаря чему образ Райнебота начинает вырисовываться четче и многограннее. Неприязнь перерастает в чувство тревоги, а та, в свою очередь, трансформируется в чувство страха, выливающегося в панический ужас, когда все новые детали поведения начинают оправдывать смутные подозрения и опасения: Hinterhältig lächelnd, fügte mit gefährlicher Liebenswürdigkeit hinzu, gefährli-che Freundlichkeit, gefährlich lächelnd, lächelte drohend, lachte hässlich auf, lachte giftig, lachte kratzig, hämisch lächelnd.
Помимо высокой частотности в тексте слов das Lächeln и lächeln (с функционально единонаправленными определениями), выступающих в качестве своеобразной доминанты поведения, обращает на себя внимание также необычная сочетаемость языковых единиц. Она реализует в данном случае такой способ создания подтекста, как соположение семантически несовместимых языковых знаков, когда в микроконтексте сталкиваются языковые средства с несовместимой семантикой, свидетельствующие о нарушении языковой нормы и создающие в сознании читателя проблемную ситуацию. В силу этого внимание четко фиксирует такие фрагменты, активизируя работу мысли.
В данном случае фоновые знания читателя апеллируют к уже известным сведениям о Рай-неботе, дополняя предыдущие подтекстовые значения новым глубинным смыслом: от обладателя такой улыбки можно в любой момент ожидать удара в спину, коварного и вероломного предательства. Он, улыбаясь, способен вынашивать в голове чудовищные замыслы. Негативное отношение перерастает в глубокое отвращение, когда Райнебот предстает перед читателем во всей «красе», со своим истинным лицом:
Sein genüssliches Lächeln verhärtete sich, die Augen wurden zu Schlitzen, und die folgenden Hiebe trafen haarscharf das offene Fleisch. Während er ausholte, schob sich sein Unterkiefer wollüstig vor (162).
Er schob den Unterkiefer vor und verzog hässlich die Oberlippe (231).
Reineboth schlug ihm die Knute kreuz und quer übers Gesicht (170).
Данный контекст поясняет, что речь идет о зверской пытке заключенных, в которой Райне-бот принимает самое непосредственное участие, руководя самим процессом истязания. И уже совершенно по-иному воспринимаются в этом контексте словосочетания fadendünnes Lächeln, zwei-schneidiges Lächeln, schlaues Gesicht , а также такие выражения, как Er machte die Augen schmal. Seine Augen wurden zu Schlitzen .
Пытка заключенных, сопровождаемая натянутой, изысканно-искусственной улыбкой на холеном лице, сладкими речами и галантным поведением, явно доставляет Райнеботу определенное эстетическое наслаждение. Уже не вызывает сомнения тот факт, что перед читателем человек, способный с учтивой улыбкой на лице доставлять бесправным чудовищные физические страдания. Поневоле возникает вопрос, а человек ли этот подонок вообще?
Наиболее ярким примером, иллюстрирующим самые мерзкие, противные человеческому естеству черты Райнебота, являются следующие фрагменты:
Reineboth begleitete das teuflische Spiel mit freundlichen Worten (175).
Hinterhältig lächelnd, fügte Reineboth mit ge-fährlicher Liebenswürdigkeit hinzu… (49).
Ein Rudel dienstfreier Blockführer lungerte her-um, auf das Schauspiel neugierig (160).
Вне контекста эти предложения могут быть восприняты только на уровне предметнологической, фактуальной информации. Лишь понимая из контекста, что das teuflische Spiel, das Experiment и das Schauspiel – это не что иное, как жестокая и изощренная пытка, читатель делает вывод о чудовищной бесчеловечности и безграничной жестокости Райнебота.
И то, что Райнебот и его сообщники рассматривают процедуру пытки как эксперимент, своего рода театрализованное представление, а тех, над кем этот эксперимент проводится, в качестве пациентов ( Die Patienten brauchen Ruhe zum Nachdenken (176)), подопытных кроликов, доказывает, что человеческая жизнь здесь ничего не стоит и с ней можно поступать как угодно, превращая истязание в увлекательнейшее зрелище.
Так на страницах романа возникает цельный и многогранный образ Райнебота, одного из самых омерзительных представителей стаи кровожадных волков, человека, реализующего себя в антигуманных целях и воплощающего в себе тотальное зло. Война создала благодатную почву для появления таких монстров, развязав им руки и вдохновив на «подвиги», раскрывающие их низменную животную сущность.
Война явилась для них тем блистательным поприщем, на котором можно смело демонстрировать свою силу над слабым и беззащитным, где любое зверство оправданно и остается безнаказанным и где физическое подавление слабого – еще одна возможность самоутверждения в собственных глазах.
Не менее интересен с точки зрения способов реализации подтекста и образ лагерфюрера Клуттига, в создании которого преобладающее место занимают дистантно расположенные микроконтексты. Взаимодействуя с фоновыми знаниями адресата, каждый микроконтекст, перекликаясь с другими, дополняет предыдущий, обогащая его новым содержанием.
Знакомя читателя с этим персонажем, автор акцентирует внимание на его внешности, поскольку именно по первому визуальному представлению облика человека складывается определенное о нем впечатление:
Der knochige, hagere Kluttig, ein uninteressanter Mensch von etwa 35 Jahren, mit überlanger, knollig auslaufender Nase, stand vor dem Schreibtisch, und seine kurzsichtigen, arg entzündeten Augen stachen giftig durch die Brillengläser (40).
Внешняя непривлекательность не остается незамеченной из-за таких ярких, обращающих на себя внимание черт, как длинный, острый, костистый нос, рисующий в воображении ищейку, и близорукие, горящие злым, ядовитым огнем глаза, напоминающие о свойственных этому человеку хищности и животности.
Это впечатление усиливается благодаря дистантной перекличке последующих семантически единонаправленных языковых знаков: Kluttig belferte, geifernd, plötzlich kreischte Kluttig auf, Kluttig zischte wütend, Kluttig brüllte erregt, Kluttig fauchte auf Schwahl auf, Kluttig kläffte ihn an.
Не случаен выбор автором глаголов belfern, geifern, brüllen, ankläffen , содержащих сему собаки. Коррелируя с концептуальной системой адресата, данная гамма звукописных глаголов, обозначающих собачий лай разной степени интенсивности, образует единую тематическую цепочку, вырисовывающую в сознании читателя (на уровне вторичной номинации) образ сварливого пса, лающего до хрипоты по поводу и без повода. Это уже совершенно иной человеческий тип – тип фанатичного, по-собачьи преданного идеям рейха, недалекого, ограниченного офицера с солдафонскими замашками, истерическими припадками и хамоватым поведением. Это не дипломат и не идейный вдохновитель, а слепое орудие в руках более опытных стратегов, бездарный, но не лишенный тщеславия, грубый, невежественный вояка, для которого нет ничего святого и который, преданно служа интересам фашистской пропаганды, с ожесточением и яростью кидается на всякого, кто смеет воспротивиться, горя алчным желанием разорвать непокорного в клочья.
Ассоциацию с охотничьим псом, с диким зверем вызывает и его внешний вид: farblose rotum-ränderte Augen, seine Brillengläser glitzerten vor Jagdlust, seine Augen irrten wild, er war voller Gier, der kalte Hass, in Kluttigs Augen lag Gift, mit galligem Grimm, er umgriff sie gierig, mit wilden Schritten.
Акцентирование таких деталей, как хищные, горящие жаждой крови глаза, а также необузданная дикость, алчная ненависть, эксплицирует заложенную в данных языковых единицах сему дикого животного, живущего по суровым законам природы, где выживает сильнейший и где убийство слабого оправдано жесткими условиями существования и борьбы за выживание.
Дистантно перекликающиеся языковые единицы kalter Hass, ratlose Wut, zischte durch die Zähne, schrie, in neue Hysterie verfallend эксплицируют подтекст следующего содержания: такой человек, безусловно, очень опасен, но его воинственный, ожесточенный настрой по крайней мере виден невооруженным глазом, все его помыслы налицо. Люди такого типа быстро загораются, взрываются, обрушивая на окружающих гром и молнии, гневно изрыгая проклятия, и столь же быстро затухают. Читатель, представляя себе Клуттига, интуитивно ощутит не ужас, а скорее неприязнь, поскольку это как раз тот случай, когда человек внутренне слаб, несдержан и духовно убог настолько, что ему не хватает терпимости и такта скрывать взрывы ярости, истерические припадки и обуздывать порывы страстей. Безусловно, его сущность намного примитивнее сущности Райнебота, что, однако, ни в коей мере не умаляет низменности его желаний и не оправдывает его животной грубости, бесчеловечности и вопиющей жестокости.
Не менее интересен и образ штандартенфюрера Шваля, коменданта концлагеря Бухенвальд. Уже с первого момента его появления на страницах романа он производит впечатление позера, работающего на публику, старающегося поразить чье-либо воображение своей импозантностью и актерским мастерством. Однако автор с самого начала открыто подчеркивает, что Шваль в действительности совсем не тот, за кого себя выдает, и тем самым развенчивает его в глазах читателя:
Schwahl war feig, unentschlossen, unsicher, doch war er überzeugt, Kluttig, dem ehemaligen Inhaber einer kleinen Plissieranstalt, an diplomatischer Be-gabung überlegen zu sein (41).
Эта эксплицитная информация вызывает первые негативные оценки Шваля, вуалирующего свою внутреннюю неуверенность и трусость под маской самодовольного рисования, выставления напоказ наигранной дипломатичности и любезности, откровенного самолюбования:
Seine Worte begleitete er stets mit ausladenden Gesten, die er durch eindrucksvolle Pausen unter-stützte (40).
Schwahl empfing ihn mit jovialem Vorwurf (272).
Schwahl lächelte nachsichtig (273).
Schwahl kam hinter dem Schreibtisch vor, pflanz-te sich vor Kluttig auf und stützte die Handle in die Seiten. Er machte die Bewegung des Halsumdre-hens, legte einige dramatische Schritte ein (276).
Theatralisch breitete Schwahl die Arme aus (279).
Er schaltete eine imposante Pause ein (279).
Schwahl, von seiner eigenen Klugheit geschmei-chelt, klopfte Kluttig gönnerhaft auf die Schulter (277).
Schwahl schob das Kinn aus dem Kragen, hatte den Eindruck, als hätte er mit der Stimme Himmlers gesprochen (283).
Многократно повторяясь и обыгрываясь в различных ситуациях, микроконтексты отдельных предложений, дополняя и взаимообогащая друг друга, синтезируют в представлении читателя достаточно цельный и емкий образ человека неестественного, отработавшего с годами свои наигранные приемы, слова, жесты, мимику и даже паузы между словами. Четко сознавая, что для таких подчиненных, как недалекий Вайзанк, смотрящих на него с благоговением и ловящих каждое его слово, он является непревзойденным авторитетом, своего рода кумиром, Шваль не жалеет сил, чтобы выставлять себя напоказ, давая повод для восхищения и преклонения. Он, несомненно, убежден в своем интеллектуальном превосходстве над ограниченным, грубым Клут-тигом, а потому позволяет себе разговаривать с ним небрежным, нравоучительным, слегка покровительственным и снисходительным тоном, ясно давая понять, кто здесь хозяин и кому какое место нужно занять.
Эпитеты theatralisch , drammatisch , imposant способствуют созданию театральной атмосферы вокруг Шваля, становясь непременными атрибутами его появления на страницах романа. А глагол sich aufplustern , накладываясь на фоновые знания читателя, вызывает у него негативное, презрительное, ироничное отношение к персонажу и эксплицирует запрограммированный автором подтекст: как смешон и нелеп расхорохорившийся Шваль, который подобно петуху, распушив перья, красуется перед самим собой, прикрывая этим позерством свою трусость и никчемность. Он отнюдь не представляет собой ничего выдающегося. Под маской опытного стратега и дипломата скрывается жалкий, ничтожный и трусливый человек, предчувствующий крах фашизма и пытающийся спасти свою шкуру.
В системе романа немаловажная роль отведена и второстепенным, эпизодическим персонажам, появляющимся зачастую всего лишь в нескольких эпизодах произведения, но оставляющим яркий след в памяти читателя благодаря эффективному воздействию на его сознание выбранных автором языковых средств.
Безусловно, обращает на себя внимание образ палача Мандриля. Ведущее место в создании его облика занимает такой принцип функционирования языковых знаков, как лаконизм: скупые штрихи, мелкие детали поведения, на первый взгляд незначительные, как будто случайно, вскользь оброненные автором, коррелируют с пресуппозиционной емкостью читателя, помогая ему восполнить недосказанное и самому сделать выводы. Функционально единонаправленные языковые единицы выступают в качестве «невидимого посоха» авторской мысли, который ведет читателя по верному пути, открывая все новые стороны, более четко вырисовывающие образ Мандриля.
Первым толчком к развитию читательской мысли становится характеристика его внешнего вида:
In seinem Gesicht, dessen erdfahle Haut von zahlreichen Pockennarben übersät war, zeigte sich keine Anteilnahme. Auch der stumpfe Blick seiner dunklen, lichtlosen Augen verriet nichts (156).
Вся его внешность способна вселить ужас и вызвать дрожь. Читателю передается запрограммированное автором неприятное ощущение: чувство смутной тревоги, безотчетного страха перед этим исполинским живым истуканом, парализующим всем своим жутким видом волю и чувства. Дистантно повторяющиеся и перекликающиеся микроконтексты blutleerer Mund, Grinsen um den Mund дополняют уже сложившееся первое впечатление о бункершарфюрере Мандриле, усиливая негативное к нему отношение и провоцируя ожидание худшего.
Не менее зловещи, чем внешний вид, и манеры этого человека: gelassen, keine Anteilnahme im Gesicht, wortlos, nickte stumm, sagte finster, mit wüster Kraft.
Дистантная перекличка отдельных микроконтекстов помогает читателю эксплицировать внутритекстовые связи и сделать следующее приращение смысла: это черствый, безучастный человек с мрачными мыслями, молчаливая сосредоточенность и зловещая ухмылка которого вселяют подозрение в его чрезвычайной жестокости. Этот подтекст предваряет последующий, подтверждающий смутные догадки читателя: с таким человеком опасно иметь дело:
Er mochte es gern, “Mandrill” genannt zu wer-den. Dieser furchtbare Name hatte in seiner Un-heimlichkeit etwas Urwaldhaftes und Schreckener-regendes, das Mandrak mit Behagen genoss (156).
Так вырисовывается еще одна омерзительная черта Мандриля: ему доставляет наслаждение внушать страх своим зловещим видом и именем.
Еще более оправдывают подозрения и атрибуты, характеризующие Мандриля:
Auf dem Tisch des Mandrills stand ein Toten-schädel, der innen beleuchtet war. Daneben lag eine Knute aus langen Lederriemen, zu einem elastischen
Vierkant zusammengenäht und mit dicken Messing-kuppen versehen (170).
Орудия пыток, стоящий на столе оскаленный череп свидетельствуют о том, что все в этой комнате пропитано духом смерти, витающей где-то неподалеку. Накладываясь на фоновые знания адресата, эта информация дает приращение смысла, что перед читателем палач, в обязанности которого входит исполнение самых ужасных истязаний.
Не вызывает сомнений, что это черствый, бездушный, неспособный к состраданию человек, получающий от своей работы удовлетворение и жаждущий крови и человеческих страданий. Дальнейший контекст демонстрирует, насколько обычно и естественно для Мандриля то, чем он занимается:
Alle drei benahmen sich wie bei einem Experiment (175).
Das messingbeschlagene Ende der Knute sauste unbarmherzig auf Höfels Hinterkopf nieder (171).
Höfels Arme wurden nach hinten hochgemessen, die Schultergelenke knackten. Er baumelte! – Sein Geschrei ging in einen pfeifenden Ton über. Die bis zum Platzen gespannten Nackenmuskeln wurden eisenhart und der weit vorgereckte Hals starr und steif wie Stein. Nachdem der Mandrill den Strick am Gitter verknotet hatte, stürzte er sich auch auf Kro-pinski, der angstvoll in einer Ecke zusammengekro-chen war (174).
Er wurde gefesselt, zum Fenster gezerrt und ne-ben Höfel hochgezogen. Sie schrien beide wie Tiere (174).
Solange die beiden schrien, hatte es keinen Zweck, mit ihnen zu sprechen, sie hörten doch nichts. Man musste warten. Der Mandrill zündete sich eine Zigarette an (175).
Молчаливая сосредоточенность, непоколебимое спокойствие при истязании, рассматриваемом Мандрилем как эксперимент, режиссером которого он сам является, доказывают, что это специалист со стажем, своего рода виртуоз, обстоятельно делающий свое черное дело и достигший высшего уровня мастерства за годы практики в Бухенвальде.
Ярко, подробно описанная сцена пыток и скупые по сравнению с ней детали поведения Манд-риля явно контрастируют и, коррелируя с пре-суппозиционной системой читателя, создают сильный диссонанс, обусловленный неестественностью обстановки, а также спокойнососредоточенным поведением Мандриля, и рождают подтекст, говорящий о том, что если что-либо человеческое и было когда-то свойственно Мандрилю, то эти ростки давно зачахли под влиянием зловещей атмосферы Бухенвальда и специфики той деятельности, которой он занимается.
Таким образом, на страницах произведения возникает еще один образ волка-фашиста, одного из стаи хищников, истинного воплощения чудовищного зверства и бесчеловечности, ставящих его на самую низшую и примитивную ступень иерархической лестницы эсэсовцев. Каждый из них несет в себе тотальное зло в разных его проявлениях: от рафинированной до грубой животной жестокости. Все они – стая, живущая по суровым законам джунглей, когда только сильный – хозяин, а удел слабого – быть загнанным в угол, затравленным и растерзанным беспощадными хищниками, кружащими в нетерпении вокруг несчастной жертвы, брызгая слюной и алча ее крови.
Не случайны авторские сравнения фашистов с дикой стаей: Ein Rudel der Blockführer, gleich Raubtieren im Käfig, feig und gefährlich wie eine Raubkatze, ein Rudel SS-Scharführer, Tiere in grau-er Uniform, die Hölle der wilden Tiere. Ни для кого из них уже не секрет, что война проиграна, что триумфальное шествие фашизма закончено. Май тысяча девятьсот сорок пятого года внес смятение в их ряды, посеяв панический ужас перед будущим. И вот они обращаются в бегство, подставляя друг другу подножки и спасая собственную шкуру.
Объектом жесточайшей травли, несчастной жертвой в романе становится ребенок, крошечное, затравленное, беззащитное существо, живущее в вечном страхе, с закрытыми глазами. Вот наиболее яркий эпизод, описывающий состояние этого ребенка, создающий разительный контраст между этим существом и стаей хищников, рыскающей по его следу:
… wie ein zusammengekrümmtes Insekt… Beine und Kopf eingezogen und die Händchen ans Gesicht gedrückt, erschien das Kind wie eben dem Mutter-leib entrissen, oder wie ein Käfer, der sich tot stellt (23).
Невольно в представлении читателя возникает образ впавшего в спячку закоченевшего полумертвого насекомого. Это впечатление усиливают такие дистантно повторяющиеся языковые знаки, как ein Insekt, das die Fühler eingezogen hatte, wie ein Engerling zusammengerollt, armer kleiner Maikäfer. Подобные сравнения никого не могут оставить равнодушным: парализованное страхом, это «насекомое» старается не обнаруживать никаких признаков жизни, чтобы не выдать своего присутствия.
Обогащенный такими деталями, как krampf-haft zugekniffene Augen, ernster Blick, gespannte Aufmerksamkeit im Gesicht, общий лингвистиче- ский контекст вызывает в сознании читателя жалость к этому малышу и отвращение к ужасам войны, обрекшей этого ребенка на тяжкие страдания. Щемит сердце и от его не по-детски серьезного вида: Er schaute zu dem groβen, ernsten Mann hinauf mit den sammetwarmen Augen eines jungen schönen Tieres, das von den schweigenden Geheimnissen der Jahrtausende mehr weiβ als der Mensch (234). Война безжалостно и сурово заставила ребенка повзрослеть, отняв родителей и лишив светлых минут детства. Недетский мудрый взгляд маленького страдальца говорит читателю о том, что ему довелось многое пережить и испытать.
Постепенно погрузившись в процессе прочтения романа в его художественный мир и проследив причудливые переплетения сюжетных линий, читатель мысленно возвращается к заголовку произведения. Если первоначальное восприятие заглавия происходило лишь на уровне фак-туальной информации и носило прогнозирующий характер, то к моменту прочтения романа в сознании читателя синтезируется представление о двух противоборствующих началах: добре и зле, воплощенных в образе ребенка, с одной стороны, и фашистов – с другой. Это борьба двух миров: мира ужаса и мрака, мира тотального зла, сметающего все на своем пути, и мира добра и света, символом которого становится ребенок, олицетворяющий надежду на лучшее в жизни.
Именно в рамках целого произведения, в тесной взаимосвязи всех сюжетных линий и благодаря строгой организации языковых единиц, тщательно отобранных автором для обеспечения максимально эффективного воздействия на читателя, реализуется основная авторская идея – война отвратительна во всех своих ликах: и в кровопролитных боях на передовой, и в таких чудовищных своих порождениях, как концлагеря, живодерни, где цена человеческой жизни так ничтожна. И все-таки в конце этого мрачного, темного туннеля ужаса, горя и отчаяния начинает брезжить маленький лучик света, надежды, веры и любви, пробуждающий в человеке новые силы для борьбы за мирное существование, за торжество добра и справедливости.
Таким образом, тематические цепочки микроконтекстов функционально единонаправленных языковых единиц, перекликаясь дистантно и коррелируя с концептуальной системой читателя, в каждом конкретном случае рождают локальную подтекстовую информацию. Она синтезирует в рамках произведения единый концептуальный замысел автора, воплощенный в заглавии романа, которое становится символом – кодовой семиотической универсалией. Именно в ней че- ловек находит единственно возможную опору, позволяющую ему освоить собственный глубинный содержательный потенциал [Берестнев 2008: 40, 41].
Professor of Germany Philology Department
Perm State University
Список литературы Роман Б.Апитца «Голый среди волков»: актуализация подтекста
- Барт Р. Основы семиологии//Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. С.114-163.
- Барт Р. Нулевая степень письма//Семиотика: сб. ст. М.: Радуга, 1983. С.306-349.
- Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс; Универс, 1994. 616 с.
- Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. 447 с.
- Берестнев Г.И. К философии слова//Вопр. языкозн. 2008. №1. С.37-65.
- Бонфельд М.Ш. Музыка: Язык. Речь. Мышление. СПб.: Композитор, 2006. 648 с.
- Бычков В.В. Выражение невыразимого, или иррациональное в свете ratio//Алексей Федорович Лосев. Форма. Стиль. Выражение. М.: Мысль, 1995. С.888-906.
- Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М.: АН СССР, 1963. 255 с.
- Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. 368 с.
- Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981. 139 с.
- Голякова Л.А. Онтология подтекста и его объективация в художественном произведении: автореф. дис. … докт. филол. наук. Пермь, 2007. 32 с.
- Деррида Ж. Эссе об имени. М.: Институт экспериментальной психологии; Алтейя, 1998. 190 с.
- Кубрякова Е.С. Возвращаясь к определению знака//Вопр. языкозн. 1993. №4. С.18-28.
- Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. Л.: Худож. лит., Ленингр. отд., 1974. 285 с.
- Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. Киев: Collegium; Киев. акад. Евробизнеса, 1994. 285 с.
- Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. 431 с.
- Apitz B. Nackt unter Wölfen. Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun., 1965. 450 S.
- Eco U. Der ästhetische Text als Erfindung//Eco Umberto. Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen. München: W.Fink Verlag, 1987. S.347-368.
- Sotting H., Müller M. Künstlerische Welten: Die Konstruktion sekundärer Systeme//Sotting H., Müller M. Zwischen Sender und Empfänger. Eine Einführung in die Semiotik der Kommunikationsgesellschaft. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1998. S.115-131.