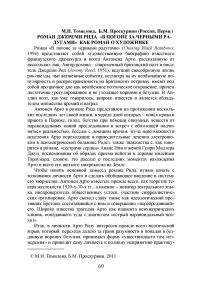Роман Джереми Рида "В погоне за черными радугами" как роман о художнике
Автор: Томилова М.Н., Проскурнин Б.М.
Журнал: Мировая литература в контексте культуры @worldlit
Рубрика: Взаимодействие литературы и других видов искусства. Литературное произведение и иллюстрация
Статья в выпуске: 6, 2011 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/147228154
IDR: 147228154
Текст статьи Роман Джереми Рида "В погоне за черными радугами" как роман о художнике
Роман «В погоне за черными радугами» (Chasing Black Rainbows, 1994) представляет собой художественную биографию известного французского драматурга и поэта Антонена Арто, рассказанную от нескольких лиц. Автор романа - современный британский поэт и писатель Джереми Рид (Jeremy Reed, 1951), ведущий своеобразную жизнь рок-звезды, чьи жизненные события, несмотря на их необычайную популярность и распространенность на Британских островах, имеют под собой прозрачное дно как неизбежное поэтическое откровение, причем достаточно урегулированное и не уходящее корнями в безумие. В Англии поэт, как уже говорилось, широко известен и является обладателем множества премий и наград.
Антонен Арто в романе Рида представлен на протяжении нескольких последних лет своей жизни, в череде дней которых - поиск крова и приюта в Париже, голод, бегство при помощи опиумных веществ от параноидальных маний преследования и встреч с обязующей подчиняться реальностью, беседы с лечащим врачом, из-за невозможности исцеления Арто переходящие в принудительные лечения электрошоком в психиатрической больнице Родез, также знакомства с, как говорится в романе, «сестрами сердца» Анаис Нин и женой Генри Миллера Джун, воспоминания об обрядах приема пейотля в деревне индейцев Тараумара; словом, это рассказ о последних моментах нахождения Арто и всего его шаткого микрокосма на Земле.
Чтобы понять основной замысел романа Рида, нужно начать с толкования личности Арто и сделать обобщающее введение в систему его творчества. Антонен Арто известен, прежде всего, как теоретик театра жестокости 1920-х-30-х гг., а именно - новатор театрального языка, ниспровергатель общественных устоев, участник сюрреалистических группировок. Арто сыскал славу также как идеологический противник Бретона, состязавшийся с ним и совершенно «перебредивший» его. Широко известна трагедия Арто как пациента психиатрических клиник, попадавшего туда с диагнозом «острый параноидальный психоз».
Итак, в личности Арто Риду интересен прежде всего поэтический взрыв, который, переходя далеко за грани разумности и попадая в бездонную воронку безумия, принимает форму существующего там «измерения» и приводит саму личность к полному непринятию практику-
ющейся вокруг реальности, восприятию всего своего творчества «актом творческой диверсии», который и «наделяет поэта истинной его ролью анархического провидца» [Рид 1994: 191]. Его жизнь и творчество - сверхпоэтизация бытия. Внутренний мир Арто подается Ридом как «джунгли, озера, уходящие к центру земли, львы, что несут солнца на спинах, летающие люди» [Рид 1994: 58]. Писатель, вслед за Арто, видит торжество художника в появлении радуги у него изо рта, его поэзию воспринимает как «отчаянную ярость зверя в западне» [Рид 1994: 23]. А женщины, которых любит он и которые любят его, они же «сестры его сердца», являются единственными проводниками поэта в мир людского единения, лишенного надрывных криков одиночества.
О своем детстве герой рассказывает как о первом столкновении с мыслью о вечном одиночестве, которая уже тогда подстегивала поэта; его, неуравновешенного, по-звериному замкнутого и читающего книги не по годам (Бодлер, Рембо, По), не одобряемые дома и в школе, водили к психиатрам с целью лечения и наблюдения. Порез в правый бок от сутенера в переулке - происшествие того дня, когда внутри Арто открылось внутреннее пространство, «смутившее его новой, запутанной географией подсознательного» [Рид 1994: 9]. В этот миг «переменились дома по соседству. Вдруг лишились окон, покосились, сдвинулись» [Рид 1994: 9]. Арто понял, что уже никогда не будет прежним, и все попытки вернуться к прошлой жизни будут тщетны. Свое будущее Арто отныне видел в том, чтобы при помощи поэзии, театра и слова заставить зрителя и читателя переживать жестокость этого ранения, т. е. жестокость жизни вообще. И, по словам Анаис Нин, именно Арто будет тем, кого «поволокут брюхом по огню», именно «на его пятках выжгут иероглифы» [Рид 1994: 24]. Поэт на протяжении всей своей жизни не сможет, да и не решится избавиться от того выплескивающе -гося за края дара, каким он наделен. И какой бы мукой ни была жизнь, отречься от себя и своих пророческих озарений невозможно для Арто. На протяжении всего романа нередки заключения героя о том, что он -избранный; подтверждения тому он и получал в виде возникающих в голове образов или вырисовывающихся на его теле - на спине или животе - символах.
Как видим, Антонен Арто у Рида - поэтический страдалец, далеко ушедший за привычную форму этого явления, это человек, преобразующий вселенную и ради этого рискующий всем.
По Н.С.Бочкаревой, можно выделить несколько характерных черт романа о художнике, а именно: роман о художнике, во-первых, -произведение, в основе которого - образ «человека творящего», и именно таков герой произведения Джереми Рида. «Основной сюжет романа - творение особого мира в хронотопе культуры» [Бочкарева 2001: 15], - считает исследователь. Так и Арто творит новый, не признанный обществом тип микровселенной, заключенной в творце. Говоря о «романе творения» как о «романе творческого становления героя» вслед за Н. С. Бочкаревой приведем слова М. М. Бахтина: «Он (чело -век. - Н.Б.) становится вместе с миром, отражает историческое становление самого мира. Он уже не внутри эпохи, а на рубеже двух эпох, в тесном переходе от одной к другой. Этот переход совершается в нем и через него. Он принужден становиться новым, небывалым еще типом человека. Понятно, что в таком романе становления во весь рост встанут проблемы действительности и возможности человека, свободы и необходимости и проблема «творческой инициативности» [Бочкарева 2001: 15]. Герой рассматриваемого романа Антонен Арто действительно есть «новый человек»: рождающийся под гнетом времени и действительности на рубеже XIX - XX вв. в эпоху мировых войн, он в самом деле «принужден становиться новым, небывалым еще типом человека».
По мнению Н.С. Бочкаревой, основа сюжета романа о художнике -мотив творения как «одночленная схема», т.е. непрерывный акт творения, безостановочный и не растрачивающийся на паузы - оттого и невозможна жизненная пригодность художника, вписывающаяся в светские стандарты, поэт просто не может отвлечься от акта творения и переключиться на простую жизненную рутину. В случае с Арто мы видим крайнюю его бесприютность, заключения в клиниках, боль от существования без употребления наркотических веществ - все это следствие невозможности подстроиться под общественный уклад, разбить свою творческую цельность на приспособленный быт и творчество, способные существовать отдельно друг от друга. Идеи Арто остаются непонятыми, а самого его, как опасного для общества, насильно прячут в психиатрические больницы.
Онтологический конфликт между жизнью (творением Бога) и искусством (творением человека) также характерен для романа о художнике. Осознавая собственную индивидуальность, человек как творение Бога, подобного самому творцу, хочет сравняться с ним в своих творениях [Бочкарева 2001: 17]. Так, об употреблении пейотля в индейской деревне Антонен Арто вспоминает: «Ныне я помню, как от наркотика исчезло время. Я больше не сомневался, зачем существую. Я понимал, что я изобрел жизнь, а не она меня, я создал собственный воображаемый космос, и если я это приму, рухнут препоны, которые возникают потому, что я сомневаюсь, откуда явлено вдохновение» [Рид 1994: 112].
Роман состоит из 8 глав, каждая из которых рассказывается от имени разных героев. Среди них сам Антонен Арто, Анаис Нин и Джун, лечащий врач - психиатр Гастон Фердьер и нимфоманка Дениз, с которой у Арто на фоне обостренного параноидального психоза в больнице Родез сложились непростые отношения. Со всеми перечисленными героями Арто находится в совершенно разных степенях духовного родства, что еще сильнее подчеркивает его поэтическую чувствительность. Так, встречи с «сестрами сердца» дают ему душевный приют и покой во времена словно бы бездельных скитаний по улицам Парижа. Их беседы - это откровения истин, да и вообще сам роман это сплошное откровение, в нем нет места активному действию, а его сюжет можно отнести к метареалистическим - он протекает не на уровне событий, а на уровне того, что находится над ними. Роман нагроможден образами, заключенными в слова. И в контексте, и в подтексте события здесь заменены признаниями героев в своих страхах и маниях, сексуальных и душевных переживаниях. Типичный диалог Арто и близкого ему по сердцу человека состоит из безостановочного монолога Арто и сдержанного молчания его собеседника. Например, эпизод в кабаке с Анаис Нин и моряком, безрезультатно пытавшимся вовлечь героиню во флирт: «Арто его не слышал и вовсе не замечал. Он полностью сосредоточился на внутреннем потоке мыслей. Рассказывал о своей борьбе против жесткой академической концепции театра и о том, что публика полагает, будто театр мертв, ибо пьесы, а равно постановки лишены спонтанной плавности. Он ярился, брызгал слюной. Если он и сознавал что творится вокруг, то предпочитал не обращать внимания или считал, что это нарушит ход мысли» [Рид 1994: 42].
Заметки психиатра, работающего с героем Рида, - это попытка нащупать грань между неизлечимым пограничным безумием Арто, отдаляющим его от разумного человеческого контекста, и провидческим даром поэта, способного находить свое место в творчестве. Мнение об Антонене Арто Гастона Фердьера, его лечащего врача, можно уместить в следующие строки: «В отличие от прочих пациентов Родеза, Арто систематизировал свой психоз в некую творческую структуру. Я его поддерживал. Я относился к нему как к другу. На выздоровление не было надежды, и я его не искал. Я старался помочь Арто приспосо -биться, ибо видения его были поучительны» [Рид 1994: 58]. Здесь следует процитировать слова самого психиатрического заключенного о своем безумии: «А кто такой подлинный безумец? Человек, который предпочел сойти с ума - как это понимает общество, - нежели изменить некоему представлению о принятом человеческом поведении. Вот почему в обществе есть те, от кого оно хочет избавить себя, от кого оно хочет себя защитить, ибо они, обреченные на жестокость психушек, отказались стать его сообщниками. Поскольку безумец - еще и тот, кого общество отказывается слушать, кому оно мешает огласить невыносимые истины» [Рид 1994: 40]. Влекомый видениями, находящийся в полнейшей неудовлетворенности от сложившихся обстоятельств, герой рассуждает: «Если бы Фердьер и все врачи, признавшие меня безумцем, разглядели мою истинную личность, поистине разглядели бы и познали, они распахнули бы предо мною ворота клиники. Я бы успел к торжественной встрече в Париже - открытая машина разрезает толпу тех, кто пришел приветствовать избранного. Я жду. В бесконечных письмах друзьям, знакомым, якобы сочувствующим, говорится, что дар мой зависит от моей свободы. Более того, я открыл вселенский язык. Я извлек слово, погребенное в саду, в центре мира. Выудил его из золотого сундука, заросшего плющом. Тайну я привез с собой в Родез. Если бы другие пациенты узнали, они сожгли бы меня в саду» [Рид 1994: 103].
Во время своего заключения Арто испытывал жесточайший творческий кризис, когда ни одна его мысль и ни один образ не могли обернуться словом, написанным на бумаге - и вот что он сам говорит об этом: «Вместо этого я кричу на белые стены холодной палаты. Когда появляются врачи, прячусь под кроватью. Я стану отвечать лишь голосом сокрытого оракула. Узнать меня - откровение. Свет мой не станет сиять банальному. В идеале я хотел бы ступить в темный лес, лечь с оленем и найти стихотворение, спрятанное под листом земляники» [Рид 1994: 104].
Сложные взаимоотношения с нимфоманкой Дениз, такой же обитательницей больницы Родез, как и Арто, - это вновь пример взрыва поэта и выхода всех неприязней по отношению к эротическому шику и сексуальному убранству Дениз, которые противоречили взглядам Арто. В основе его идей - воспевание человеческой андрогинности и презрение к физической, плотской страсти. К Дениз Арто посылал письма с проклятиями, а на двери ее палаты выцарапал пентаграмму.
Почти бессюжетное повествование романа, осветившее личность, жизнь и творчество Арто от лица разных людей, подходит к концу, и, по словам самого героя, - к ожиданию смерти. В конце романа иллюзия присутствия поэта Изидора Дюкасса, мифического двойника Арто, символизирует духовное объединение поэтов вне времени, которое предшествует смерти Арто. Одно из последних высказываний героя в ожидании смерти звучит так: «Я смирился с невозможным. Я жду смерти, как золотой медведь ждет лосося. Один нырок - и на когтях блестит чешуя. Я уйду с потоком. На другом берегу найду я белый во - обряжаемый город. Мои дочери будут ждать там. Они выйдут из теней и обнимут меня. Мы сядем на перевернутой лодке и станем наблюдать, как Изидор Дюкасс спускается по лестнице, приставленной к концу радуги. И придут остальные. Те, кого я приглашал. Нерваль, По и Рембо. Я лягу и обдумаю все позабытые сны. По восстановленным образам я прочту свою жизнь» [Рид 1994: 186].
Итак, роман Джереми Рида «В погоне за черными радугами» можно классифицировать как роман о художнике. Он обладает всеми характерными признаками романа такого типа: герой не принимает мир внешний и эстетизирует бытие, а также является новым человеком на рубеже эпох. В основе исследуемого произведения - стремление автора как можно глубже вжиться во внутренний мир одного из самых противоречивых художников слова в мировой литературе и, таким образом, ярче показать особенности его жизни и полнее раскрыть мощь и глубину характера поэта. Антонен Арто внес неоспоримый вклад в мировую театральную культуру и литературу, и, как можно заметить, дело его не умирает, но скорее приобретает популярность благодаря творчеству Джереми Рида.
Список литературы Роман Джереми Рида "В погоне за черными радугами" как роман о художнике
- Рид Дж. В погоне за черными радугами. Тверь: Колонна, 1994. 198с.
- Бочкарева Н.С. Роман о художнике как роман творения: генезис и поэтика. Пермь, 2001. 252 с.