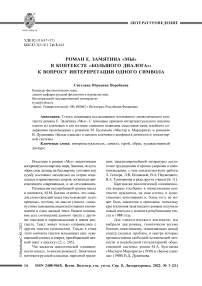Роман Е. Замятина "Мы" в контексте "большого диалога": к вопросу интерпретации одного символа
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию возможного символического контекста романа Е. Замятина «Мы». С помощью приемов интертекстуального анализа одного из ключевых в его поэтике символов выявлена смысловая связь идейного содержания произведения с романом М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и романом В. Дудинцева «Белые одежды» в аспекте ключевого конфликта личности и тоталитарной системы.
Интертекстуальность, символ, герой, образ, художественный дискурс
Короткий адрес: https://sciup.org/149143792
IDR: 149143792 | УДК: 82-311(47+57)
Текст научной статьи Роман Е. Замятина "Мы" в контексте "большого диалога": к вопросу интерпретации одного символа
Воссоздав в романе «Мы» диалогически воспринятую им картину мира, Замятин, по сути, обрек свое детище на бессмертие, уготовив ему судьбу постоянно находиться на острие социальных и нравственных споров, оставаться произведением современным, а не сегодняшним.
Размышляя над проблемой границ текста и контекста, М.М. Бахтин отметил, что «каждое слово (каждый знак) текста выводит за его пределы», поэтому, по мысли ученого, «недопустимо замыкание анализа (познания и понимания) в один данный текст. Всякое понимание есть соотнесение данного текста с другими текстами и переосмысление в новом контексте. Текст живет только соприкасаясь с другим текстом (контекстом). Только в точке этого контакта текстов вспыхивает свет, освещающий и назад, и вперед, приобщающий данный текст к диалогу» [2, с. 205].
Что касается диалогической «освещенности назад», то анализ романа Е. Замятина в контексте русской классики, народной тради- ции, западноевропейской литературы достаточно традиционен и прочно укоренен в замя-тиноведении, о чем свидетельствуют работы Л. Геллера, Л.В. Поляковой, В.А. Недзвецкого, В.А. Туниманова и ряда других ученых [6; 11].
Картина же диалогической «освещенности вперед» (особенно в отечественном контексте) нуждается, на наш взгляд, в существенных дополнениях и, более того, не может быть закончена в принципе, поскольку круги влияния замятинского романа получили новый импульс с момента републикации текста в 1988 году.
Для «диалогического контекста» мы выбрали два романа, тематически весьма близких замятинскому, поднимающих целый спектр сходных проблем, в центре которых противостояние свободной человеческой личности и несвободной (тоталитарной) общественной системы: роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (1940) и «Белые одежды» (1988) В.Д. Дудинцева.
Что касается булгаковского романа, то сегодня существует довольно обширная исследовательская литература, посвященная вопросам сопоставления и взаимовлияния его с текстами Замятина [7; 12; 13]. Более того, постоянно подчеркивается существование некой общности этих двух писателей и в аспекте их биографий, их личных контактов и той окололитературной ситуации, что сложилась вокруг них и их произведений [9].
Роман Дудинцева «Белые одежды», опубликованный в тот же год, что и роман Замятина («Нева», 1988), без сомнения, вошел в тот новый литературный контекст, который сложился в постперестроечные годы вследствие активного возращения в литературу «задержанных» произведений. Тем не менее этот контакт не получил пока должного освещения и нуждается, на наш взгляд, в более подробном рассмотрении.
Все три названных романа многое объединяет: сложная символика, их очевидная ориентированность на христианский миф, получивший в каждом произведении оригинальную авторскую интерпретацию.
Именно образам-символам, сообщающим высказыванию смысловую глубину и смысловую перспективу отводит М.М. Бахтин значительную роль в творческом созидании смысла. В них и следует искать ключ к осуществлению диалогического контакта.
Роман Замятина буквально насыщен символами, лейтмотивами, создающими своего рода подтекст и восходящими к некоему образу-мифу, тексту-первооснове. Большая часть этих символов представляет собой либо математический, либо графический знак: термин, который, будучи помещенным в «рамку» художественного текста, перестает быть абсолютно равным себе, сущностно диалогизи-руется, обретает в своей структуре некий эстетический «зазор» и начинает вести себя как полноценный художественный образ, способный к диалогическому контакту.
Одним из таких образов-символов романа является «Х» (икс). Семантическое наполнение его не вызывает больших трудностей и очевидно сопряжено со значением «тайна». При этом, сохраняя в художественном дискурсе свой математический код, «Х» дополняется такой немаловажной коннотацией, как
«принципиальная невычислимость», «вечная переменная».
Этот же знак («Х») появляется и в романе В. Дудинцева «Белые одежды»: «Свешников опять замолчал, поглядывая по сторонам. – Что это за таинственные знаки вы тут понаставили? Вот я вошел – и куда ни посмотрю, везде они. На стене, на подоконнике... Крест какой-то... Это икс? У вас был неразрешенный вопрос? Или знак умножения? Что это такое?
– Не крест и не икс. Объемная фигура, вроде песочных часов. Видели песочные часы? Два конуса. Вот этот конус вверх расходится, в бесконечность. А второй – вниз, тоже в бесконечность.
...Это графическое изображение нашего сознания – как оно относится к окружающему миру. Изображение условное, конечно. Верхний конус, который уходит в бесконечность, все время расширяется, это Вселенная, мир, вмещающий все, за исключением моего индивидуального сознания... А нижний конус, который тоже в бесконечность уходит и у которого нет дна, это я... Еще никто не проникал в сознание индивидуального человека. Даже того, который твердит, что он большой коллективист. Наша внутренняя свобода более защищена, чем внешняя. Мысли не звучат для чужого уха» [8, с. 163–164].
Сходясь тематически, романы Дудинце-ва и Замятина диалогически пересекаются в выборе символов, присутствие которых в обоих текстах взаимодополняют, взаимоосвеща-ют друг друга, формируя зону контакта.
У Замятина носительницей икса (в буквальном и переносном смыслах) является I-330. Но ее «Х» сущностно пересекается, дополняется одноименным знаком из романа Дудинцева: именно I-330 первая и единственная в романе последовательно и целенаправленно демонстрирует эту принципиальную несхожесть внешнего и внутреннего, не считая это болезнью или отклонением от нормы. Д-503, вслед за ней, подверженный ее влиянию, фактически занят тем, что постепенно также выстраивает этот недостающий ему в начале романного действия внутренний («нижний») конус индивидуального сознания, принципиально отличного от прямолинейности внешнего враждебного моно-мира Едино- го Государства, вследствие чего и формируется их неизбежный, трагический по своей сути конфликт. Именно этот конфликт формирует развитие действия во всех трех названных романах, каждый из которых эстетически демонстрирует различные варианты его разрешения на уровне художественной структуры создаваемых образов.
Трагическая сущность конфликта на эстетическом уровне проявляется, таким образом, в принципиальном несовпадении структуры человеческой личности, вмещающей в себя два названных «конуса», две «бесконечности» (Дудинцев) и тоталитарной системы, требующей плоскостной, прямолинейной, открытой, монологической конструкции (монотонной, конечной и предсказуемой).
В романе Замятина происходит разрешение конфликтной ситуации посредством Великой Операции, уничтожающей фантазию (по Замятину) или внутренний конус (по Дудинце-ву). В результате Д-503 полностью совпадает структурно с внешним моно-миром Единого Государства, но перестает быть личностью. Он обретает счастье, но это счастье нумера – модель которого формирует власть Благодетеля: все прозрачно и прямолинейно.
М.А. Булгаков в своем лучшем, «закатном» романе художественно воссоздает ту же коллизию. В этом смысле можно говорить и о своеобразном родстве его Мастера и Д-503, проявившемся в сходстве их судеб: не выдерживая конфронтации, Мастер добровольно повторяет путь замятинского героя, добровольно лишая себя «внутреннего конуса». Сжигая роман, отказываясь от Маргариты и уходя в клинику Стравинского, он, по сути, тоже превращается в безвестный «нумер». Но Булгаков идет дальше и рассматривает в романе иную ситуацию, иной возможный исход: спасая своего героя, он авторской волей уничтожает «внешний конус» враждебной Мастеру действительности, перенося его в мир вечного покоя, вечного творчества, вечного диалога.
Булгаков, вступая в диалогический контакт с текстом замятинского романа, «казнит» не личность, а тот моно-мир , что противостоит ей, лишив его присутствия Мастера, прокляв его таким образом на языке искусства.
В.Д. Дудинцев в «Белых одеждах» делает акцент на том, что структура личности имманентно оказывается защищенной от посягательств внешней агрессии, поэтому проблема уже не в том, как сохранить «нижний, тайный конус» своей души, а в том, есть ли он вообще (сюжетные линии Краснова, Шамковой, Вонлярлярских, Побияхо, Ходе-ряхина, Саула). Воссоздавая в романе коллизии борьбы генетиков и лысенковцев, автор романа находит альтернативный и замятинскому, и булгаковскому варианту путь: его герои, приспосабливаясь внешне к враждебным условиям, набрасывая на свои «белые одежды» покров лжи («завиральная» теория Леночки Блажко, «двойная игра» Федора Дежкина, полковника Свешникова, Жени Бабич), они сохраняют свою тайную свободу («нижний конус») в условиях навязываемого им враждебного моно-мира, одерживают победу над ним.
Главным «этическим поступком» (Бахтин) для героев Дудинцева становится сохранение не только чистоты своих «белых одежд», но и той связующей нити, что обеспечивает непрерывность предания. Поэтому важным, объединяющим все три романа мотивом становится мотив связи поколений, мотив ученичества, в отношении которого все три романа выстраиваются в некий типологический ряд по степени и характеру его проявления.
Все главные названные герои оставляют после себя некое продолжение: Д-503 – не рожденного еще ребенка. Связь между ними очень зыбка и можно только предполагать, что унаследует и что он получит извне. Но в любом случае это все же будет не прямой, а отраженный (через посредничество О-90) диалогический контакт. Поэтому этот диалог осуществим лишь потенциально [10, с. 86].
Мастер тоже оставляет после себя ученика (так при прощании назовет он Иванушку Бездомного). Но он светит лишь отраженным от самого Мастера светом. Главное, что вынес он из диалога со своим учителем, это то, что стремление сохранить себя («нижний конус», душу, «тайную свободу») в условиях агрессивной реальности способно забрать подчас все силы, поэтому ему в удел остается только тихое, безвредное полусуществование в зоне этического поступка и максимальная реализация себя в интеллектуальном творчестве действительности познания. Результат этого – безрадостность последних строк об Иване Поныреве (символическое предвосхищение судеб многих, писавших в стол, вынужденно молчавших).
Герои Дудинцева оставляют после себя настоящих учеников, которые идут дальше, совершая то, что не успел их учитель. Стри-галев-Троллейбус активно противостоит моно-экспансии Лысенко-Рядно, формируя целый коллектив («кубло») единомышленников и последователей, (причем не только в науке, но и в зоне «этического поступка»), активно воздействующих на бытие в целом («верхний конус»), меняя соотношение сил в нем (сюжетные линии Федора Дежкина, полковника ГБ Свешникова): «Результат воздействия бытия на меня будет зависеть и от моей личности. Меня нельзя сбрасывать со счета, я не молекула воды. На воздействие бытия я отреагирую самым неожиданным для многих образом» [8, с. 166].
Мотив «наследства», становясь одним из ведущих в романе, затрагивает таким образом не только материальное (новый сорт картофеля, ценнейший научный материал), но и нравственно-этическое (личностную активность, последовательность в противостоянии злу [1; 4; 5], в сохранении своей внутренней свободы).
В романах Е. Замятина, М. Булгакова и В. Дудинцева выстраивается таким образом ряд типологически сходных героев, противостоящих внешним посягательствам мономира : от колеблющегося, внушаемого, по-детски наивного и потому обреченного Д-503 – к Мастеру, ведомому только светом Истины, «угадывающему» эту истину, но сломленному «количеством старой силы», – к героям «Белых одежд», пребывающих уже в стадии «обретения оружия» против экспансии мономорали , отстаивающим свободу своей личности, активно воздействуя при этом на «внешний конус» бытия.
Все отмеченные символические и типологические пересечения создают эффект контекстуальной взаимоосвещенности, взаимоуг-лубляя содержание названных произведений и делая доступным их общий «ценностносмысловой момент», значимый, по мнению Бахтина, лишь для «индивидуумов, связанных какими-то общими условиями жизни – в ко- нечном счете узами братства на высоком уровне» [3, с. 369].
Этот «внетекстовой интонационно-ценностный контекст» [3, с. 370], на существование которого указывают, на наш взгляд, результаты проведенного анализа, говорит о присутствии вокруг замятинского романа того, что Бахтин называл «диалогизирующим фоном», возникновение которого возможно лишь при определенных условиях, связанных прежде всего с особой формальной организацией эстетического объекта, которая в свою очередь обусловлена последовательно диалогичной позицией автора в его взгляде на мир и в его оценках этого мира, то есть принципиальной открытостью его сознания этому миру. Именно диалогический характер как эстетической, так и мировоззренческой позиции Е.И. Замятина обусловил особый характер его пророческого отношения к будущему, позволил создать образ диалогической картины мира. Его приобщенность к диалогу «большого времени» – яркое тому свидетельство.
Список литературы Роман Е. Замятина "Мы" в контексте "большого диалога": к вопросу интерпретации одного символа
- Андреев, В. Е. Дьявольское и божеское в цикле Е.И. Замятина «Нечестивые рассказы» / В. Е. Андреев // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня: научные доклады, статьи, очерки, заметки, тезисы. В 2 ч. Ч. 2 / под ред. Л. В. Поляковой. – Тамбов: Изд-во ТГПИ, 1994. – С. 182–184.
- Бахтин, М. М. К методологии литературоведения / М. М. Бахтин // Контекст, 1974: лит.-теорет. исслед. / АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: Наука, 1975. – С. 203–212.
- Бахтин, М. М. К методологии гуманитарных наук / М. М. Бахтин // Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 361–373.
- Безрукова, Р. А. Мифомышление Е. Замятина / Р. А. Безрукова // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня: науч. докл., ст., очерки, заметки, тезисы / М-во образования Рос. Федерации, Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. Державина; [ред-кол.: Л. В. Полякова (отв. ред. и сост.) и др.]. – Тамбов: ТГУ, 1994. – Кн. 3. – С. 60–64.
- Гольдт, Р. Религиозный кризис и протест против мира отцов / Р. Гольдт // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня: научные доклады, статьи, очерки, заметки, тезисы. В 6 кн. Кн. 3 / М-во образования РФ ; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов: ТГУ, 1994. – Кн. 3. – С. 28–33.
- Давыдова, Т. Т. Рецепция философских идей Ф. Достоевского, В. Соловьева и В. Розанова в повести Е. Замятина «Алатырь» / Т. Т. Давыдова // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня: науч. докл., ст., очерки, заметки, тезисы. В 6 кн. Кн. 3 / М-во образования РФ ; Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов: ТГУ, 1994. – С. 46–60.
- Десятов, В. В. Счастье = «Блаженство»/«Зависть» (роман Е. Замятина «Мы» в творческой рефлексии Ю. Олеши и М. Булгакова) / В. В. Десятов,
- А. И. Куляпин // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. В 10 кн. Кн. 9: по материалам IV Междунар. Замятинских чтений (сентябрь 2000). – Тамбов: ТГУ, 2000. – С. 105–110.
- Дудинцев, В. Д. Белые одежды / В. Д. Дудинцев. – М.: Кн. палата, 1988. – 668 с.
- Ильина, Т. А. Е. Замятин и М. Булгаков (к истории творческих взаимоотношений) / Т. А. Ильина // Творчество Евгения Замятина: проблемы изучения и преподавания: материалы I Рос. Замятинских чтений, 21–23 сент., 1992 г. – Тамбов: Изд-во Тамб. пед. ин-та, 1992. – С. 81–83.
- Капрусова, М. Н. МЕФИ: семантика имени в романе Е. Замятина «Мы» / М. Н. Капрусова // Эстетические и лингвистические аспекты анализа текста и речи: сб. ст. В 3 т. Т. 2. – Соликамск: Соликам. гос. пед. ин-т, 2002. – С. 86.
- Комлик, Н. Н. Творческое наследие Е. И. Замятина в контексте традиций русской народной культуры: автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Комлик Надежда Николаевна. – Тамбов, 2001. – 35 с.
- Самсонова, М. А. «Под гнетом власти роковой...» (Тема «Художник и власть» в творчестве Е. И.Замятина и М. А.Булгакова) / М. А. Самсонова // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня: науч. докл., ст., очерки, заметки, тез. В 2 ч. Ч. 2. – Тамбов: Изд-во ТГПИ, 1994. – С. 216–223.
- Эндрюс, Э. Взаимосвязь творчества Булгакова и Замятина: Развитие символики Замятина в романе «Мастер и Маргарита» (Тема революции в аспекте интертекстуального анализа) / Э. Эндрюс // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2, История, языкознание, литературоведение. – 1992. – Вып. 2 (№ 9). – С. 75–82.