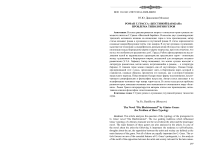Роман Г. Грасса "Жестяной барабан": проблема типологии героя
Автор: Данилкова Юлия Юрьевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 2 (53), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о типологии героя в романе немецкого писателя Г. Грасса «Жестяной барабан». В качестве двух доминирующих традиций, оказавших влияние на концепцию героя в этом произведении, автор статьи называет роман о художнике и плутовской роман. В статье определяются основные жанрообразующие черты этих жанров. В случае «романа о художнике» выделяются тенденция к саморефлексии, размышления об искусстве, присутствие оппозиции между бюргерским миром и миром творчества, при этом отмечено, что не все эти особенности релевантны для Г. Грасса. Работа сфокусирована на исследовании одной из кардинальных характеристик грассовского героя - оппозиции между художником и бюргерским миром, актуальной для литературы позднего романтизма (Э.Т.А. Гофман). Автор показывает, что мотив «ухода» восходит к литературе романтизма, мотив маски, встречающийся в романе, - к литературе барокко. О главном герое можно говорить как об «аутсайдере». Однако Оскар, предпринявший этот «уход», продолжает жить в бюргерском мире, который и становится, главным образом, предметом его записок, как и история Германии нацистского периода. Повествование Оскара имеет форму воспоминания, исключающего саморефлексию и философию искусства. Автор статьи указывает и на модификацию основных черт жанра героя-плута. В статье исследуется проблема развития героя, показаны основные вехи изменения его отношения к миру «больших». Роман Грасса интерпретируется автором статьи как произведение, испытавшее влияние философии экзистенциализма.
Г. грасс, роман о художнике, плутовской роман, типология героя
Короткий адрес: https://sciup.org/149127438
IDR: 149127438
Текст научной статьи Роман Г. Грасса "Жестяной барабан": проблема типологии героя
Исследователи не раз отмечали, что роман «Жестяной барабан» (1959), открывающий «Данцигскую трилогию» Г. Грасса, представляет собой синтез различных жанровых разновидностей: в нем есть черты как социальноисторического, так и автобиографического, плутовского романов, «романа о художнике» [Krumme 1988, 1-160]. Однако одной из основных загадок произведения становится личность повествователя, ассоциирующего себя с личностью Христа, обладающего при этом как незаурядными музыкальными способностями, так и чертами трикстера-разрушителя. Диапазон интерпретаций образа главного героя достаточно широк: от героя-плута до художника эпохи авангарда. Ряд исследователей связывает его с традицией «наивных» персонажей, простаков, столь знакомых немецкой литературной традиции, например, с Симплициссимусом Гриммельсгаузена: с последним героя Г. Грасса роднит как музыкальная одаренность (Сим-плициссимус играет на лютне), так и одиночество в конце произведения.
Цель статьи, в связи с этим, состоит в том, чтобы подойти к пониманию концепции героя-повествователя, опираясь на существующую литературную традицию.
Согласно мнению немецкого исследователя А. Фишера, Грасс «выбирает особую нарративную перспективу, суть которой состоит в изображении событий с точки зрения “нерефлексирующего”, не способного к анализу событий рассказчика. Мацерат обладает не только физической, но и интеллектуально-вербальной ущербностью» [Fischer 1992, 26-28]. С этим мнением трудно согласиться хотя бы потому, что роман представляет из себя связный и насыщенный метафорами рассказ-воспоминание главного героя, карлика Оскара Мацерата, помещенного в психиатрическую больницу, об истории своей семьи в период правления нацистов и о жизни главного героя после войны, причем, взгляд автора сконцентрирован не только на эпизодах собственной жизни, в поле зрения автора (и героя) попадают самые разные персонажи.
Оскар Мацерат не первый герой в европейской литературе, пытаю- щийся «объясниться» с помощью барабанной дроби. Генезис образа Оскара Мацерата восходит и к барабанщику-французу Ле Грану из «Путевых картин» Г. Гейне, изъяснявшегося при помощи барабана, так как он не знал немецкого языка. Рассказ о нем можно счесть поэтическим вымыслом автора, рассказывающего о своем детстве, и прекрасно понимающего музыку барабанной дроби француза Ле Грана. Тем не менее у Гейне речь идет об иной, нежели у Грасса, ситуации - идеи барабанщика поняты юным Гейне без вербальных объяснений. О романе Грасса можно говорить как об особом способе коммуникации - но уже не с привычным окружением Оскара, а, возможно, с современниками, и, скорее даже, с потомками, так как свои записки Оскар пишет, находясь в почти полнейшей изоляции - в психиатрической больнице. Вероятно, подлинная коммуникация понимается Грассом в духе французских экзистенциалистов - невозможная между людьми, она становится осуществимой в ином пространстве - между человеком и произведением, между человеком и человеком, благодаря произведению, связью «по вертикали». Как известно, Г. Грасс прожил четыре года в Париже и был знаком с трудами французских экзистенциалистов, поэтому идея «особой» коммуникации могла быть ему близка [Klaus 1989, 72].
Отметим, что для романного повествования принципиальной является позиция персонажа, ведущего повествование о былом, о людях, ушедших из жизни, автор этих записок - уже тридцатилетний Оскар, несомненно обладающий литературным даром и способный, как мы покажем далее, к особому типу рефлексии. Перед нами ретроспективный взгляд на вещи давнего и не столь отдаленного прошлого и именно такой взгляд тоже является составляющей частью концепции героя.
В 1979 году режиссер Ф. Шлендорф, сторонник Нового кино в Германии, экранизировал одну из частей «Данцигской трилогии» Г. Грасса -роман «Жестяной барабан». Это была довольно смелая попытка создания киноверсии романа, который, казалось бы, по своей природе противится визуальному искусству: перед нами витиеватый текст, насыщенный гротескными образами и метафорами, и рассчитанный на слуховое восприятие.
Можно ожидать, что одной из первых задач, стоящих перед режиссером, станет задача воссоздания ретроспективного видения. Но Ф. Шлендорф решает проблему художественного времени по-иному, нежели у Г. Грасса. В фильме Ф. Шлендорфа присутствует рассказчик, Оскар, ведущий повествование, но при этом сама ситуация написания записок в психиатрической больнице отсутствует. Герой-рассказчик фильма существует в настоящем, да и самой дистанции между временем рассказа и временем, о котором рассказывается, практически не существует. Таким образом, фильм существенным образом меняет концепцию художественного времени, а, значит, как мы покажем, и концепцию героя в романе, так как герой фильма статичен, а герой романа находится в постоянном развитии, как мы покажем дальше.
Итак, отметим, что на вопрос о том, кто повествователь романа Г. Грасса, оказывается весьма тяжело ответить. Как кажется, герой Г. Грасса, обращающегося к эстетике барокко, стремится к сокрытию своей сущности, в произведении это реализуется в буквальном стремлении Оскара и его матери «уйти» под юбки бабушки. Это герой, противящийся любому «ов-нешнению» и определению, что также вписывает его в контекст экзистенциалистских представлений о человеке. Неслучайно одной из метафор ада становится пространство, в котором «обнаженного человека запирают в одном помещении со всеми фотографиями» [Грасс 1997, 67]. Если проследить этот метафорический ряд, то окажется, что «властителем» этого ада является сам Бог, который, по замечанию рассказчика, «словно прилежный фотолюбитель щелкает нас сверху в укороченном ракурсе» [Грасс 1997, 66]. Примечательно, что «взгляд» Бога-фотографа абсолютно антропоморфен, он «видит» не душу человека, как это было в традиционном понимании, а его физический облик «сверху в укороченном ракурсе» - так же, как видят карлика Оскара окружающие, для которых он всего лишь лилипут среди «больших».
Однако в отношении других и сам Оскар не может отказаться от «внешнего» взгляда. Роман с первых страниц напоминает «путешествие» по семейному фотоальбому, история Оскара, таким образом, начиная с первых жизненных впечатлений вписана в историю семьи, да и сам герой за исключением некоторых периодов своей жизни существует вместе с семьей. Фотография, как никакое другое искусство, призвано запечатлеть индивидуальность человека, да и сам автор говорит о своем стремлении к индивидуализации вопреки тенденции литературы двадцатого столетия. При этом на семейных фотографиях Оскар-повествователь у своих родственников отмечает скорее типичные черты: «этот гордый взгляд был любим и распространен во второй империи» [Грасс 1997, 70], «после войны входят в моду другие лица» [Грасс 1997, 71].
Однако, роль этого «внешнего» взгляда амбивалентна. Оскар начинает писать свои записки в психиатрической больнице лишь в ощущении своего контакта с Другим - Оскар хочет удалить стекло из глазка, чтобы санитару Бруно с глазами «сказочного зверя» и «вымершего чудища» было удобнее подглядывать за ним. Возможно, санитар с «мертвыми» глазами может символизировать контакт героя со смертью.
Сокрытие и темнота - два спутника Оскара, воспринимающего любой свет с негативным оттенком. «Кто нынче возьмет меня под юбки? Кто закроет от меня свет дня и свет лампы?» [Грасс 1997, 193]. Герой хочет любыми средствами скрыться от «внешнего» взгляда.
Для понимания смысла романа «Жестяной барабан» чрезвычайно актуален круг идей и метафор, восходящих к барочной литературе (неоспорим тот факт, что Г. Грасс прямым источником своего романа считал «Симплициссимуса» Гриммельсгаузена). Г. Грасс обращается и к традиционной метафорике, и творит свои собственные метафоры. Как известно, доминирующей идеей барочной литературы была идея игры, представле-300

ние о мире как о гигантском театре, где каждый герой меняет череду масок [Рымарь 2008 а, 28]. «Маска» Оскара призвана служить «оборонительной» по отношению к остальному миру позиции, заставляя героя остаться внешне ребенком и не войти во «взрослый» мир. Этот факт, казалось бы, обостряет оппозицию двух миров: «больших» и Оскара, пробуждая в герое и актерское начало, ведь имея сознание взрослого, Оскару приходится играть роль «придурка».
Безусловно, одним из первых источников «Жестяного барабана» стал плутовской роман с такими отличительными и сохраненными Грассом чертами, как ведение повествования от первого лица, пародийное обыгрывание религиозных мотивов, хронотоп дороги, картина общества, «увиденная с изнанки и со стороны», что соответствует взгляду «снизу» Оскара Мацерата, двойственная повествовательная перспектива, при которой рассказчик ведет повествование о себе в прошлом [Рымарь 2008 Ь, 165].
Однако далее начинаются расхождения. В самом Оскаре нетрудно заметить черты трикстера, проявляющиеся, впрочем, весьма незначительно. Важные вехи в судьбе Оскара связаны как минимум с двумя попытками плутовской «игры» с одним из предполагаемых отцов - Альфредом Мацератом: в первом случае Оскар падает в подвал и перестает расти, а вина за это падение перекладывается на Мацерата, во втором - Оскар становится прямым виновником смерти предполагаемого отца.
Характер «плутовского» испытания носит следующий поступок Оскара: во время обстрела польской почты он просит своего предполагаемого отца Яна Бронски, охваченного страхом, с угрозой для собственной жизни достать ему с полки новый жестяной барабан, чего тот не делает. В данной ситуации Оскар ведет себя неадекватно, и эту сцену можно интерпретировать и по-другому: как охлаждение и отчуждение художника, его невозможность испытать человеческие чувства к предполагаемому отцу, жизнью которого он рискует. Как отмечают исследователи, искусство начинает пониматься как «враг действительности» уже в XIX веке, а затем образ художника в литературе XX века приобретает демонические черты, как в романе Т. Манна «Доктор Фаустус» [Зусева-Озкан 2014, 244]. В этом эпизоде мы видим странное сочетание художника, способного пожертвовать многим и многими ради искусства, и трикстера, Мефистофеля, испытывающего своего отца.
Продолжая далее тему плутовского романа, скажем, что герой его выступает как заложник Фортуны, в то время как Оскар, маг и чародей, как его характеризуют в конце романа, обладает колоссальной силой воли, заставляя свой организм не расти. Последнее утверждение о констатации необычной силы воли не бесспорно, если учесть, что в плутовском романе повествование ведет «ненадежный рассказчик».
Последователи иного взгляда предполагают, что в произведении также присутствуют на равных правах и черты «романа о художнике», пусть и в измененном, благодаря гротеску и пародии, виде. Исследованию этого жанра посвящены работы Маркузе, Д.Л. Чавчанидзе, А.В. Михайлова
[Михайлов 1987; Чавчанидзе 1997; Marcuse 2004]. О наличии элементов этого жанра в «Жестяном барабане» рассуждает А.В. Карельский, полагающий, что именно присутствие «плутовского» начала в романе, способствует «аллегорическо-ироническому переосмыслению роли художника» [Карельский 1990, 365], а дар Оскара «пародирует исконные претензии поэтов на магическую силу: грассовский герой, этот гротескный Орфей-нигилист, тоже чарует, но чарует двуногих животных, высвобождая и выставляя напоказ таящиеся во тьме их душ низменные инстинкты» [Карельский 1990, 365]. Очевидно, это сопоставление возникает у ученого спонтанно, не получая дальнейшего развития и обоснования; при этом, нужно учесть, что ни один из аспектов «орфического» мифа Г. Грасс в своем романе не развивает. Исследователь А.В. Добряшкина, связывая роман с традицией барокко, отмечает очевидный, по ее мнению, факт: действие во многих романах Г. Грасса концентрируется вокруг «персонажа-художника». «Каждый художник трудится над своим собственным произведением», - пишет она [Добряшкина 2010, 90]. Особенность же творчества Оскара состоит, по ее мнению, в том, что последний преобразует любую картину мира «в собственную иконографическую систему, основанную на перераспреде-ленности взаимосвязи отдельных кадров» [Добряшкина 2010, 102].
Итак, отечественные исследователи констатируют и присутствие творческого начала у главного героя, и факт творения им «своей реальности», при этом ограничиваясь лишь констатацией сходства с жанром «романа о художнике», не проводя дальнейшего глубокого анализа. Очевидно, это происходит потому, что гротескный образ циничного ребенка-карлика Оскара трудно сопоставим с «благородными» героями романов этого типа, возникших в классико-романтическую эпоху, а само произведение Г. Грасса претендует на пародию. Одна из глав в книге А.В. Карельского «Метафорфозы Орфея: Беседы по истории западных литератур» посвящена исследованию романов о художниках в немецкой литературе эмиграции [Карельский 1999, 263-299]. Безусловно, Г. Грасс не имеет никакого отношения к литературе немецкой эмиграции, но имя создателя «Орфея-нигилиста» даже не упомянуто наряду с такими, как Т. Манн, Г. Брох, вероятно, по указанной выше причине. «Роман о художнике» при этом рассматривается Карельским не как самостоятельное явление, но как разновидность романа исторического. Одним из аспектов в разработке исторических тем этого периода автор считает «обращение писателей не просто к историческим личностям, а к людям искусства» [Карельский 1999, 263].
Позволим предположить, что к роману «Жестяной барабан» применимо и понятие «метароман» третьего типа, когда герой становится и «автором» сочиняемого им романа, в котором «рассказывает о себе и о романе, который он пишет» [Зусева 2008, 120].
Что касается степени изученности темы в зарубежном литературоведении, то здесь нельзя не помянуть монографию С. Клауса «Искусство и бытие художника в ранних произведениях Г. Грасса» (“Kunst und die Ktinstlerexistenz im Friihwerk von G. Grass”, 1989), автор которой обстоя-
тельно рассматривает «Жестяной барабан» в контексте этого жанра. Автор монографии анализирует основные, с его точки зрения, аспекты проявления «темы художника» в романе. По мнению Клауса, аполитичное искусство Оскара с самого начала связано с экспрессионистской идеей протеста против цивилизации и культуры, от которой герой в течение романа постепенно освобождается; тем не менее в самом начале романа Оскар «расправлялся со стеклянными кубками несчастного Людовика XVI и его безголовой Марии-Антуанетты <...>, а в завершении разобрался со стеклянными изделиями французского модерна» [Грасс 1997, 362-363]. Крик и барабанная дробь становятся способами защиты против бюргерского мира, и изначально протест является смыслом бытия для Оскара, переиначившего высказывание Декарта: «<...> ибо покуда я резал пением стекло, я существовал» [Грасс 1997, 397]. Тема «ухода» художника известна европейской литературе еще с эпохи романтизма (Э.Т.А. Гофман), для Оскара важна и эта идея.
При этом Оскар Мацерат - герой, показанный в развитии, и сами записки создаются в иной для героя ситуации: искусство, в самом начале романа отделявшее его от окружающих, теперь его к ним приближает, ведь перед нами - роман-воспоминание. Более того, по мысли Клауса, отношение Мацерата к искусству отражает основные тенденции в эстетике европейского искусства: от попыток воспроизведения целого автор приходит к ощущению себя [Klaus 1989, 79]. Для нас важным является факт, подчеркиваемый автором работы, о том, что Оскар - развивающийся герой.
Идея развития, нового «рождения» задана в романе с самого начала. Грасс оригинально прочитывает, казалось бы, традиционную метафору: стрекотанье мотылька, летящего на огонь и бьющегося о стекло лампы, становится для Оскара предвестием его барабанной дроби. Образ мотылька, сгорающего в пламени, достаточно традиционен и часто символизирует влюбленного, пожираемого пламенем любви. Однако исследователи дают этому образу и другую интерпретацию. Отмечено, что одним из первых по-иному прочитывает эту метафору Леонардо да Винчи: человека, как мотылька, влечет «желание собственного разрушения», «желание вернуться на родину к нашему первоначальному состоянию сходно со стремлением бабочки к огню» [Махов 2014, 538]. Далее эта метафорика развивается Гете, и «пламенная смерть» прочитывается последним как реализация желания нового «становления» [Махов 2014, 538]. Можно сказать, что именно эта, последняя интерпретация, предполагающая идею нового становления, развития, становится значимой для Оскара.
Ранее было сказано, что становление героя обусловлено во многом его меняющейся позицией по отношению к миру взрослых. Оскар счастливо миновал стадию детства, и его остроумные, гротескные метафоры ни в коей мере не призваны имитировать «детский» стиль речи. Правильнее было бы говорить о мире «больших» людей, мире, полном жестокости, ригоризма, вызывающего отвращение у Оскара: «Оскар терпеть не мог единодушный гимн порядку» [Грасс 1997, 117].
Проследим основные вехи этого меняющегося отношения к миру «больших». Первый случай, когда Оскар перестает притворяться и выглядит старше своего предполагаемого отца Яна Бронски, мы видим в эпизоде обороны польской почты; Ян Бронски проявляет трусость и даже неадекватность: в разгар военных действий он строит карточный домик. Символичен и тот факт, что Бронски с Оскаром прячутся в детской. В этот день Оскар и предполагаемый отец как бы меняются местами, Оскар зажигает две свечи и ставит их на барабан, при этом, как мы знаем, ранее Оскару был неприятен свет.
Следующий эпизод, отмечающий новую веху становления Оскара, связан с эпизодом похорон Мацерата, предполагаемого отца, когда герой бросает барабан в могилу и падает за ним сам: после этого он на время оставляет свое искусство и начинает расти, так как в него попал камень, брошенный его предполагаемым сыном.
В любом случае «внешняя» причина каждый раз выглядит для посторонних как чудо и маскирует силу желания самого Оскара, пожелавшего расти или приостановить свой рост в определенный момент. В романе «Жестяной барабан» чудо - это исполнение воли самого Оскара, оно не имеет божественного происхождения, но позволяет заключить о присутствии особого дара у самого Оскара. «Для любого чуда люди ищут естественную причину», - так комментирует Оскар стремление его родных объяснить задержку роста его падением в подвал [Грасс 1997, 448]. Рационализму своих родственников Оскар противопоставляет свой собственный рационализм, объясняя необходимость своего проекта (падения в подвал с целью прекратить рост) двумя вполне рациональными причинами: желанием «свести консультации к терпимому минимуму» и пробудить чувство вины у одного из предполагаемых отцов - Мацерата [Грасс 1997, 80]. Перед нами герой, не одержимый, как это можно было бы предположить, вдохновением, он предельно рационалистичен, и его утрированный рационализм способен потягаться с рационализмом разве что мира «больших», который он не приемлет.
В любом случае бюргером Оскар не становится, сам он сопоставляет себя с Йориком - шутом. В связи с этим важно говорить об аллюзиях на трагедию У. Шекспира «Гамлет», в романе Г. Грасса реализуется ситуация, которая изначально кажется противоположной шекспировской: не Гамлет держит в руках череп Йорика, но Оскар, ассоциирующий себя с Йориком, видит «неухоженные пальцы принца Гамлета на лопасти своей лопаты» - актера Г. Грюндгенса, игравшего некогда роль Гамлета [Грасс 1997, 498]. Впрочем, в конце главы, повествующей об этом, Оскар называет себя «Гамлетом, шутом», по-иному интерпретируя известный текст [Грасс 1997, 500].
Нужно отметить, что в романе присутствуют несколько вариантов развития «судьбы художника». Одна из них реализована в судьбе клоуна Бебры.
По мнению исследователя Клауса, прототипом Бебры, наставника
Оскара, стал герой романа К. Манна «Мефистофель», Хендрик Хефген, образ которого «списан» с зятя К. Манна - актера Г. Грюндгенса, фигурирующего и на страницах романа Г. Грасса. Роман «Мефистофель», по заключению Клауса, это не что иное, как роман о карьере человека, продавшегося власти [Klaus 1989, 103]. Однако с этим утверждением нельзя согласиться полностью, ведь музыкальный клоун Бебра, выступавший «в приватных угодьях господ Геббельса и Геринга», объявлявший себя «придворным шутом», постепенно приходит к идее «тайного сопротивления» существующему режиму [Грасс 1997, 339].
Другая линия связана с образом Гете, который неизбежно фигурирует в романе только в паре с фигурой, одиозной для русской истории, - Распутиным, словно бы Г. Грасс подчеркивает неразрывность их существования как дионисийского и аполлонического начал. В конце романа именно Гете, переодетый «черной кухаркой» оказывается символически связанным с бюргерским миром.
Мир «больших» людей живет исключительно материальными ценностями, а в художественном мире романа существенную роль играет метафора поедания пищи. Так, в начале «храм искусства», театр, сравнивается героем с гигантской мельницей. В романе важна метафора «мир как кухня» и связанный с ней образ Черной Кухарки; ненавистный Оскару Мацерат - любитель готовить и поесть. Г. Грасс, бесспорно, был знаком с работой Т. Манна «Гете как представитель бюргерской эпохи», в которой последний описывается как лишенный «жреческого, торжественного и ходульного» человек, привередливый в еде и питье, то есть отнюдь не пренебрегающий простыми человеческими радостями [Манн 2008, 155]. Вероятно, этим и объясняется такое неожиданное «превращение» Гете в Черную Кухарку.
Итак, Г. Грасс во второй половине XX столетия создает произведение, имеющее своими прямыми источниками плутовской роман и «роман о художнике». Обе эти традиции в существенной мере формируют тип героя, Оскара Мацерата, противящегося любому «внешнему» взгляду на свою сущность. Поэтологические черты, свойственные этим жанрам, в XX веке существенно меняются. Если говорить о чертах «романа о художнике», в том числе и о метаромане, то, можно отметить исчезновение доминирующей в XIX веке темы творческой саморефлексии, на первый план здесь выходит оппозиция «бюргерский мир - художник», да и она сложно и неоднозначно отображена в тексте, стилистика романа усложняется за счет привнесения сложной метафорики, гротеска и пародии. Плутовской роман оставляет в тексте Грасса еще меньше «следов», так как непосредственно плутовские «поступки» Оскара Мацерата незначительны. Обе традиции, сплавляясь, выводят героя и роман в целом на уровень экзистенциального романа с его оппозицией героя миру, пониманием искусства как протеста и невозможностью подвести личность главного героя под какое-либо определение.
Список литературы Роман Г. Грасса "Жестяной барабан": проблема типологии героя
- Грасс Г. Жестяной барабан. Харьков, 1997.
- Добряшкина А.В. Гротеск в творчестве Г. Грасса. М., 2010.
- Зусева В.Б. Метароман // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2008. С. 120-121.
- Зусева-Озкан В.Б. Историческая поэтика романа. М., 2014.
- Карельский А.В. Метаморфозы Орфея: Беседы по истории западных литератур. Вып. 2: Хрупкая лира. Лекции и статьи по австрийской литературе ХХ века. М., 1999.
- Карельский А.В. От героя к человеку. М., 1990.
- Манн Т. Путь на волшебную гору. М., 2008.
- Махов А.Е. Эмблематика: макрокосм. М., 2014.
- Михайлов А.В. О Людвиге Тике, авторе «Странствий Франца Штернбаль-да» // Тик Л. Странствия Франца Штернбальда. М., 1987. С. 279-340.
- (а) Рымарь Н.Т. Барокко поэтика // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2008. С. 27-30.
- (b) Рымарь Н.Т. Плутовской роман // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2008. С. 165-166.
- Чавчанидзе Д.Л. Феномен искусства в немецкой романтической прозе: средневековая модель и ее разрушение. М, 1997.
- Fischer A. Inszenierte Naivität. Zur ästhetischen Simulation von Geschichte bei Günter Grass, Albert Drach und Walter Kempowski. München, 1992.
- Klaus S. Kunst und die Künstlerexistenz im Frühwerk von G. Grass. Köln, 1989.
- Krumme D. Günter Grass "Die Blechtrommel". München; Wien, 1988.
- Marcuse H. Der deutsche Künstlerroman // Marcuse H. Schriften. Bd. 1. Der-deutsche Künstlerroman. Frühe Aufsätze. Springe, 2004. S. 7-546.