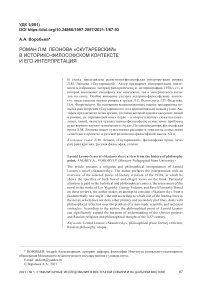Роман Л.М. Леонова "Скутаревский" в историко-философском контексте и его интерпретация
Автор: Воробьев Андрей Александрович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 1 (55), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье представлена религиозно-философская интерпретация романа Л.М. Леонова «Скутаревский». Автор предваряет интерпретацию введением в избранную литературно-критическую историографию 1930-х гг., в которой показывает специфику как советского, так и эмигрантского взглядов на книгу. Особое внимание уделено историко-философскому контексту: представлены оценки романа в трудах Л.С. Выготского, Г.П. Федотова, П.А. Флоренского. На основании вышеозначенных оценок предпринята попытка рассмотрения «Скутаревского» под принципиально новым углом. Автором предлагается точка зрения, согласно которой одной из ведущих линий в романе, не отрицающей иных перво - и второстепенных сюжетно-смысловых линий, является художественно-философское осмысление проблемы рукотворного научно-технического «чуда». По мнению автора, философская проза Л.М. Леонова может существенно расширить горизонты осмысления «советского проекта» и русской религиозно-философской мысли XX в.
Л.М. Леонов, «Скутаревский», философская проза, литературная критика, русская философия, утопия
Короткий адрес: https://sciup.org/170175978
IDR: 170175978 | УДК: 1(091) | DOI: 10.24866/1997-2857/2021-1/87-93
Текст научной статьи Роман Л.М. Леонова "Скутаревский" в историко-философском контексте и его интерпретация
Среди философской прозы Л.М. Леонова роман «Скутаревский» (1932) занимает, пожалуй, самое неоднозначное место. При детальном изучении творчества писателя-мыслителя создается впечатление, что «Скутаревский» словно бы «промежуточная остановка» между «Сотью» (1930), новой вехой в творчестве после знаменитого «Вора» (первая ред. 1927), и «Дорогой на Океан» (1935), явившей качественно иной уровень литературного мастерства Л.М. Леонова в 1930-х гг. (который писатель отчасти преодолеет в компромиссном «Русском лесе» (1953) и однозначно превзойдет в бескомпромиссной «Пирамиде» (1994)). В каком-то смысле такое «промежуточное состояние» соответствует одной из ведущих «внешних» тематических линий романа – «встраиванию» старой технической интеллигенции в социализм.
Если говорить о литературно-критическом контексте восприятия романа в 1930-х гг., то можно отметить, что наряду с «избивающей», но непростой советской критикой романа [13, с. 337–355] имелись и взвешенные оценки [9, с. 65-94], тем неожиданнее, что исходили они из уст не слишком симпатизирующих1 писателю-мыслителю литкритиков [5, с. 97–98]. О романе высказывались и в русской эмиграции. Г.В. Адамович сетовал, что внешнее давление, сделка Л.М. Леонова со своей совестью рушат этот непростой роман (хотя критик неожиданно находил «Скутаревского» лучше «Соти») и отмечал, имея в виду советскую творческую несвободу (как он ее понимал), что «читать “между строк” – не стоит»2 [1, с. 174]. Г.П. Струве высказался о романе лапидарно, скорее обратив внимание на внешнюю его сторону, и отметил, что Л.М. Леонов остается в числе первых советских писателей [18, с. 195].
Что удивляет в этой критике – ее фокусировка обнаруживает две линии, к которым, в сущности, сложное мышление Л.М. Леонова несводимо: советская сторона видит недостаточную «советскость» прозы, эмигрантская – «советскость» избыточную (особенно на фоне полюбившегося ей «Вора»). Но имеются и точки соприкосновения «советского» и «эмигрантского»: это «рельефизация» проблемы вредительства (очень актуальная для 1930-х гг. тема)
на промышленных объектах. Г.П. Струве даже соотносит описанное в романе с «Процессом инженеров» («Метро-Виккерс»), что, безусловно, углубляет исторический контекст восприятия книги [18, с. 195]. Но именно в этой точке соприкосновения происходит «застревание» на теме, ее некоторое преувеличение и, следовательно, «заслонение» глубокого философского подтекста и шифровок романа (а шифрование мыслей – это «визитная карточка» философской прозы Л.М. Леонова).
В позднесоветские годы композиционная многосложность романа была исследована в блестящей работе Р. Опитца [11]. В собрании сочинений писателя-мыслителя О.Н. Михайловым представлен точный взгляд на роман: комментатор, показывая основные линии книги (встраивание интеллигенции в социализм, проблему вредительства, сложное взаимодействие старого и нового поколений, лирическую составляющую), подчеркивает глубокий экзистенциальный мотив: «В “Скутаревском” Леоновым взят за основу трагизм нераскрытой идеи, на которую потрачена жизнь» [8, с. 307].
Таков общий абрис литературно-критического восприятия романа, дополняющийся размышлениями философов. Именно эти размышления интересуют меня предметно применительно к данной статье.
Нужно отметить, что какие-либо упоминания советской прозы в трудах философов – явление нечастое, и потому каждая реплика может считаться находкой для исследователя. В случае «Скутаревского» такие реплики есть: это мысли Л.С. Выготского, Г.П. Федотова и П.А. Флоренского. Их можно «классифицировать»: философско-психологическая, социально-политическая и эпистемологическая оценки.
Л.С. Выготский «зацепился» (в положительном смысле) за образ «горы», интерпретировав его как идиоматическую внутреннюю речь героя [3, с. 481]. «Гора» Сергея Скутаревско-го – некий фантастический мыслеобраз, мечта ученого-электрофизика, преследующая его и никак не могущая быть вербализованной им же самим, не до конца ясный самому главному герою образ, его влекущий (это, между прочим, подчеркивает тот аспект, что Скутаревский не «законченный» механист, как я покажу ниже, но мыслящий шире себя самого ученый, которого «ведут» не только «внешние» рациональные силы его могущественного ума).
Г.П. Федотов избыточно драматизирует (за этим стоит, на мой взгляд, вынужденный отрыв русской эмиграции от «почвы») положение Л.М. Леонова как художника, подводя к тому, что последний продает советской власти свой талант прижизненного классика [15, с. 15]. Вместе с тем философ читал его книги и отмечал существенную деталь в отношении «Скутаревского»: роман Г.П. Федотову представлялся «злым», оправдывающим «большевистскую злость», которая есть слабость [16, с. 342]. Эти оценки в высшей степени спорны, но в них имеется важное зерно: мрачный дух романа отмечался многими критиками, на которых я ссылался выше, и некая энергия «озлобления» (правда, ее стоит понимать скорее как «ученое неистовство») действительно присутствует в книге – более того, она играет в ней существенную роль.
П.А. Флоренский подходит к роману с третьей стороны – крайне перспективной для философского интерпретирования. В своем письме, в целом дав негативный и резковатый отзыв роману (отзыв дается «предметно»: поскольку философ сам занимался вопросами электрических полей и диэлектриков, то он ищет реалистического соответствия художественного текста реальной же электрофизике), он, однако, подчеркивает ценность замысла – «показать, как строится научно-техническая идея, как она воплощается в жизнь» [17, с. 697]. По мнению П.А. Флоренского, этот замысел Л.М. Леоновым был реализован неудачно, и, вследствие этого, восприятие романа становится крайне противоречивым.
Имея такие разные мнения, многие из которых отнюдь не положительны, нужно попытаться понять: что в романе представляет именно философскую ценность? Как, имея в виду уже высказанное литературными критиками и философами, реактуализировать «Скутаревско-го» спустя почти 90 лет с момента его издания и попробовать тем самым прояснить философское мышление Л.М. Леонова?
Я акцентирую свое внимание на одном аспекте, который не был замечен, а именно на вопросе о том, как возможно научно-техническое «чудо», сопоставимое с чудом религиозным? Такой вопрос появился у меня как раз в связи с замечаниями вышеупомянутых философов в отношении романа.
Если идиоматический внутренний разговор («гора») Скутаревского с собою в чем-то выше самого ученого, если неистовство его познания (фаустианство) обнаруживается в некоем «озлоблении», соотносимом с религиозным духом большевизма, и если техническая идея имеет исток в мечте и иррациональном, то впору спросить: а какова конечная цель электрофизических экспериментов главного героя и каковы философские основания, мысля внутри которых, он приходит (и приходит ли) к своей цели?
На мой взгляд, проблема сотворения технического рукотворного «чуда» и художественно-философское ее осмысление составляют одну из ведущих, но неочевидных линий в романе. Она может быть вскрыта только путем скрупулезного чтения книги с учетом всего объема творческого наследия писателя-мыслителя.
Итак, Сергей Скутаревский всю свою жизнь, являющую собой экзистенциальное напряжение и одержимость идеей (по сути, он – ученый-монах Модерна, а его работа – «цель, подвиг, схима » (курсив мой. – прим. авт. ) [7, с. 38]), идет к цели: реализовать на практике передачу электроэнергии на расстояние без проводов. Идея эта, между прочим, зарождается у него из вопроса о том, почему светятся рыбы – он размышляет «о причинах свечения и электрической самозащите глубоководной фауны» [7, с. 33]. Его мечта воплотить идею в жизнь есть не просто мечта о «техническом прорыве» и видоизменении в лучшую сторону (это важный мотив романа) того общества, в котором «прорыв» будет совершен. Это буквальное проникновение в тайну природы, ее «поимание» (здесь я специально употреблю архаичное библейское слово) и в каком-то смысле «преодоление» ее власти, человекобó-жество (идея, в сущности, религиозная, но реализуемая внутри научно-преобразовательного мышления, корнями восходящего к философии Нового времени).
Специфический религиозно-философский контекст романа может быть обнаружен в поистине мистериальной сцене беседы Скутарев-ского с В.И. Лениным. Вождь, взгляд которого «как бы ионизирующий пространство» (в религиозно-богословском смысле это «калька» с теофании) [7, с. 40], внимательно слушает доводы электрофизика в отношении идеи передачи электричества на расстояние без проводов, что послужит нуждам советского народа. По результатам беседы выходит, что «теофа-нирующий» Ленин дает добро «заклинателю природы» Скутаревскому подготовить инсти- туциональные основания для совершения научно-технического «чуда» в условиях, явно не благоприятствующих этому (страна находится в разрухе, принесенной Гражданской войной).
Л.М. Леонов художественно улавливает самую суть: такую в значительной степени утопическую идею ученого поддерживает именно советская власть, которая сама и есть власть утопии, ставящая «эсхатологическую» задачу преображения людей в новую коммунистическую породу человека (а утопия – это секуляризированный эсхатологизм [2, с. 43]). Отмечу, что ни Скутаревский, ни Ленин даже не знают, возможно ли эмпирически такое «чудо», но они верят в «чудо» и потому гипертрофируют теоретическую потенциальность, как бы соде-лывая утопию неутопией. Изображенное писателем-мыслителем советское научно-техническое строительство вскрывает неожиданную диалектику веры и неверия: «чудо» возможно рукотворно, потому что в него верят, но возможно ли «чудо» тогда, когда нет доказательств его возможного воплощения? Скутаревский отвечает: да, возможно, если научная институция «объективирует» веру (и тем самым инструментализирует ее) под предводительством человека-носителя идеи (этот подход очень близок идеям В.Н. Муравьева).
В одном из мест романа Скутаревский прямо заявляет, что он – механист [7, с. 248], материалист, он «видел электронные души тел» [7, с. 213] (нюанс: материалистическая, позитивистская «выучка» электрофизика – досоветская). С.Г. Семенова в статье, посвященной творчеству Л.М. Леонова, очень точно замечает, что роман буквально пронизан словом «вещество», которое усиливает ощущение «материалистичности» при чтении книги [14, с. 42–43]. Но сам Л.М. Леонов оставляет в романе «следы»: если смотреть на «молекулярный уровень» (это выражение писатель-мыслитель будет употреблять по отношению ко второй редакции «Вора») «одержимости идеей», то окажется, что ее происхождение в уме позитивиста-материалиста вполне себе «субъективно-идеалистическое»: восхождение на «гору» есть де-факто внутреннее самостоятельное преодоление (как верит — так видит и потому — преодолевает) смерти «каскадом» прямых волевых актов (в этом я вижу пелагианские и космистские мотивы, которые будут развиты в «Дороге на Океан») [7, с. 17–18].
Признание Скутаревского в том, что он – механист есть, конечно, историко-философская отсылка к спору «механистов» и «диалектиков», пик которого пришелся на 1929 г. Нужно сказать об этой дискуссии несколько слов. Как отмечает А.П. Огурцов, центральный пункт спора двух философских «партий» – это вопрос о редукции как таковой и ее возможностях применительно к научному знанию. «Механисты» возводили идею редукции в абсолют и утверждали, что сведение есть основная характеристика научного познания, «диалектики» же подчеркивали скорее скачкообразность в переходах от высшего к низшему и тем доказывали диалектичность бытия и познания [10, с. 194, 196]. Однако общий корень двух «партий» прорастал из естествознания рубежа XIX–XX вв. и его огромных претензий на познание и овладение природой.
Между прочим, «механистской» проблемы отчасти касается И.М. Нурсинов: он пишет, что Скутаревскому удается преодолеть «механистический материализм» и смотреть на мир диалектически, что, по мнению критика, практически доводит до логического завершения сочетание ученого с социализмом [9, с. 70–71]. Такое замечание довольно точно, исходя из социально-политического контекста тех лет, но вместе с тем оно значительно глубже указанного контекста: Скутаревский, преодолевая вульгарный «механицистский материализм» путем осмысливания диалектичности жизни, сам не становится «диалектиком», не переходит под крыло другой «партии». Все его внутреннее перерождение служит лишь одной, более фундаментальной цели: усложнению себя ради сотворения «чуда».
И именно в этом «высоком» пункте человеческого «самостроения» и прозревания высоких горизонтов пессимистическое мышление Л.М. Леонова разворачивается в полную мощь: писатель-мыслитель сгущает повествование ближе к концу книги, пытаясь показать оборотную сторону веры в прогресс.
Скутаревский добивается того, что его идея как бы «обрастает» институциональной «плотью»: электрофизик, проведя удачный эксперимент по передаче электричества без проводов в лаборатории, выходит на уровень полигонного испытания, иными словами, на последнюю стадию «поимания» природы. Но писатель-мыслитель, называя эксперимент прямыми религиозными словами «великое таинство науки», показывает, что «чудо не состоялось» вопреки всем стараниям не только лично Скутаревско- го, но и коллектива электрофизического института [7, с. 278–279]. Более того, попытка рукотворного чудостроения приводит к массовой гибели ворон (судьбоносный кладбищенский символ) на месте проведения испытаний (подспудно возникает вопрос: если «попытка» губит животный мир, какова будет цена итогового воплощения идеи в жизнь?), а само «таинство» оборачивается против «тайносовершите-ля»: «он вышел, постаревший и черный»3 [7, с. 279]. Так, отчасти писатель-мыслитель возвращает читающих к эпизоду в романе «Соть», когда речь большевика Ивана Увадьева о преобразовании жизни и достижения счастья путем строительства целлюлозно-бумажной фабрики и культурного центра рядом прерывается возгласом: «А ты птичкам воздух подари, а рыбам водичку: то-то милости твоей возрадуются» [6, с. 109]. Этими словами Л.М. Леонов скрыто намекает на то, что обожествление человеческих возможностей (научно-технический прогресс) хотя и возможно, но человек не может быть выше своего Творца, первично творящего природу (человек же «пере-творит», его действие вторично).
Ошибка Скутаревского, таким образом, по Л.М. Леонову заключается не в его передовых идеях, не в недостаточном соответствии «партийной дисциплине» (полном «врастании» в социализм), не в том, что он «механист»4, даже, в конечном счете, не в страстном начале самого ученого. Ошибка, если это вообще можно называть ошибкой, имея в виду сумрачные философские поиски самого Л.М. Леонова, заключается в том, что Скутаревский, как и советская власть, потерял сакральное измерение жизни, «титанизировался». В этом писатель-мыслитель видит опасность для нового строя, производит критику, по сути, богословских претензий новой власти, но не для того, чтобы показать ее историческую несостоятельность – скорее для того, чтобы найти корень заболевания и высказаться о нем, пускай и зашифровано (это необходимый атрибут личной самообороны писателя в условиях РАППовского «инквизиторства» начала 1930-х гг.).
Завершая статью, отмечу, что философское осмысление творческого наследия Л.М. Леонова практически не представлено на страницах специальной периодики. Однако его оригинальные мысли, философские поиски 1920-х – 1930-х гг., в чем-то продолжающие линию Ф.М. Достоевского (например, в «Конце мелкого человека» и «Воре»), а в чем-то преодолевающие ее (например, в «Соти» и «Ску-таревском»), во многом помогают прояснить вопрос о том, что же такое был «эпохальный переплав» – не только как непосредственно пережитая Россией историко-культурная ситуация, но и как определенный образ мышления. Я полагаю, что осмысление философской прозы Л.М. Леонова может задать дополнительную глубину и показать самые неожиданные углы рассмотрения советского прошлого – и не только в указанном хронологическом отрезке начала 1930-х гг., представленном в статье. Этой небольшой интерпретацией сложного романа «Скутаревский», произведенной с учетом историко-философского и литературно-критического контекстов, я стремился показать, как творчество русского советского писателя-мыслителя может быть реактуализовано и переосмыслено сегодня.
Список литературы Роман Л.М. Леонова "Скутаревский" в историко-философском контексте и его интерпретация
- Адамович Г.В. «Скутаревский» Леонида Леонова // Адамович Г.В. Собрание сочинений. Литературные заметки: в 5-ти кн. Кн. 2. СПб: Алетейя, 2007. С. 167-174.
- Волошина М.А. Утопичность как важнейшая характеристика русского космизма // Вопросы философии. 2014. № 9. С. 42-50.
- Записные книжки Л.С. Выготского. Избранное. М.: Канон+; РООИ «Реабилитация», 2018.
- Кирпотин В.Я. Романы Леонида Леонова. М.; Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1932.
- Кирпотин В.Я. 15 лет советской литературы // Под знаменем марксизма. 1932. № 9-10. С. 84-112.
- Леонов Л.М. Соть // Леонов Л.М. Собрание сочинений: в 10-ти т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1982. С. 5-284.
- Леонов Л.М. Скутаревский // Леонов Л.М. Собрание сочинений: в 10-ти т. Т. 5. М.: Художественная литература, 1983. С. 5-304.
- Михайлов О.Н. Примечания // Леонов Л.М. Собрание сочинений: в 10-ти т. Т. 5. М.: Художественная литература, 1983. С. 307-319.
- Нурсинов И.М. Леонид Леонов. М.: Художественная литература, 1935.
- Огурцов А.П. Философия науки: двадцатый век. Концепции и проблемы: в 3-х ч. Ч. 2: Философия науки: Наука в социокультурной системе. СПб.: Изд. дом «Мiръ», 2011.
- Опитц Р. Идейно-композиционная структура романа Леонида Леонова «Скутаревский» // Русская литература. 1970. № 2. С. 62-75.
- Письма Леонида Леонова В.А. Ковалеву (1948-1993) // Из творческого наследия русских писателей XX в. М. Шолохов - А. Платонов - Л. Леонов. СПб.: Наука, 1995. С. 426-427.
- Прилепин З. Леонид Леонов: подельник эпохи: биография. М.: АСТ, 2019.
- Семенова С.Г. Романы Леонида Леонова 20-30-х годов в философском ракурсе // Век Леонида Леонова. Проблемы творчества. Воспоминания. М.: ИМЛИ РАН, 2001. С. 23-56.
- Федотов Г.П. Лен Зеленой // Федотов Г.П. Собрание сочинений в 12-ти т. Т. 7. М.: Sam & Sam, 2014. С. 13-16.
- Федотов Г.П. Правда побежденных // Федотов Г.П. Собрание сочинений в 12-ти т. Т. 4. М.: Sam & Sam, 2012. С. 323-347.
- Флоренский П.А. Сочинения: в 4-х т. Т. 4. Письма с Дальнего Востока и Соловков. М.: Мысль, 1998. С. 696-697.
- Struve, G., 1933. Current Russian literature: I. Leonid Leonov and his «Skutarevsky». The Slavonic and East European Review, Vol. 12, no. 34,pp.190-195.