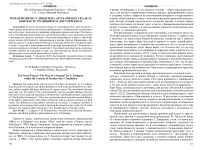Роман-молитва Т. Линдгрена "Путь змея на скале" в контексте традиций Ф. М. Достоевского
Автор: Кобленкова Диана Викторовна, Сухих Ольга Станиславовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 1 (40), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется роман Т. Линдгрена «Путь змея на скале» с точки зрения религиозно-этической проблематики и особенностей художественной структуры; предлагается жанровая дефиниция романа-молитвы. Поставленные в этом произведении вопросы о соотношении добра и зла, о разумности мира, о возможности диалога человека с Богом рассматриваются в связи с философскими идеями Достоевского, выраженными в романе «Братья Карамазовы». Делаются выводы о существен-ной общности подходов писателей к вопросам веры, а также о сходстве в повествовательной структуре произведений. Отмечаются и различия авторских позиций: концеп-ция Т. Линдгрена пессимистична, поскольку человек обречен на страдания в мире зла, Достоевский же видит возможность преодоления зла на основе христианских ценностей.
Т. линдгрен, ф.м. достоевский, шведская проза, русская литература, религиозно-этическая проблематика, философский роман, христианство
Короткий адрес: https://sciup.org/14914592
IDR: 14914592
Текст научной статьи Роман-молитва Т. Линдгрена "Путь змея на скале" в контексте традиций Ф. М. Достоевского
Одним из самых значительных религиозно-этических произведений 1980-х гг. в Швеции стал роман «Путь змея на скале» (Ormens vag pa hallebergetx, 1982) Торгни Линдгрена. Автор обращается к тексту Священного Писания, но в необычной жанровой форме.
Роман начинается с «Приложения к ежегодному отчету секретаря Губернского общества содействия крестьянским промыслам в Вестерботте-не, год 1882». Год символичен, т.к. Т. Линдгрен создает текст ровно сто лет спустя - в 1982 г. Этот прием задает «игровые» правила, роман переходит в разряд метафикции, и по ее законам в центре - образ персонажа-писателя, для которого первичными являются процесс разворачивания текста и создание особого эффекта на соположении авторского и персонажного планов. «Приложение к отчету» выполняет функцию рамочной конструкции, внутри которой располагается основной рассказ. Соответственно читатель постоянно соотносит текст в тексте с фикциональной авторской рамой, и можно говорить об использовании писателем конструкции mise еп abyme, т.е. рассказа в рассказе.
В «Приложении» содержится отчет чиновника, посетившего место гибели крестьянской семьи после обрушения горной породы. С первых слов о местечке, где жила семья Юхана Юханссона, говорится как о забытом Богом крае, что задает образ Бога как уставшего от своих деяний работника, давно оставившего созданное им человечество. Но в том же отчете иронически отмечается: люди твердо верят, что «Господь Бог до сих пор продолжает свою работу по сотворению и переделке мира, и работа эта, по их мнению, конца не имеет» (251)2 [здесь и далее русский перевод романа цитируется по указанному изданию]. В итоге чиновник, выступающий двойником автора, первым демонстрирует сомнение в бытии Всевышнего. Его скепсис подтверждается ироническим замечанием о том, что на приложенной к отчету карте место трагедии он отметил крестиком. Соотнесение образов креста как символа мук Христовых и канцелярского крестика усиливает иронический подтекст.
Рамочной конструкции в романе противопоставлен основной текст -монолог оставшегося в живых Юхана о событиях, предшествовавших страшному исходу жизни его семьи. Речь героя начинается с обращения к Богу: «Господи наш многомилостивый, кого же намеревался ты погрести в тот раз, когда единым махом снес с лица земли весь Кюльмюрлиден, -Карл-Орсу землевладельца и лавочника, или же нас с Юханной и с нашим домом? И с детьми нашими малыми, еще и не жившими, почитай, на белом свете?» (252). Трагический дискурс монолога героя контрастирует с ироническим дискурсом «Приложения к отчету». В результате соположения основного и рамочного текстов создается метаповествование, в котором внимание читателя переносится «с целостного образа мира, создаваемого текстом, на сам процесс конструирования и реконструирования этого еще не завершенного образа», поэтому читатель «поставлен в положение соучастника творческой игры»3.
Необычный для католического автора иронический подход к христианской теме замечен и шведскими исследователями. М. Нильссон писал об «экзистенции и иронии» в романах Т. Линдгрена, о том, что автор размышляет об экзистенциальных и религиозных вопросах, используя не только текстуальную иронию, но и ситуативную, возникающую вследствие двойственности оценок и диалектического столкновения фактов4. И. Персон выявляет в романе главные антиномичные категории: силу и власть - бессилие и неповиновение; долг, обязанность - милосердие, помилование. Идея Бога как Спасителя, в которого верила семья Юхана, противопоставляется ситуации несвободы (психологической и религиоз-

ной), в которой эти люди были вынуждены жить5. Вопросы о том, «как зло может существовать в мире, который создан Богом, и имеет ли человек какую-либо свободу, чтобы формировать свою жизнь и свою судьбу», были вынесены на обложку монографии в качестве главных в творчестве Т. Линдгрена. В целом основной ракурс шведских исследований связан с анализом экзистенциальной иронии, преодоления религиозных шаблонов6, парадоксальности христианской картины мира7.
Избранная автором необычная форма также отражает его отношение к христианской этике. Уникальность произведения, на наш взгляд, заключается в оригинальной жанровой модификации, которую можно определить как художественную форму молитвы.
По форме монолога главного героя Юхана его молитва - это прошение. Однако молитва согласно канону предполагает веру в того, к кому она обращена. В романе Линдгрена особенность молитвы заключается в том, что герой обращается к Богу, в существовании которого сомневается. Отношения между человеком и Господом становятся главной темой романа, в котором молитва-прошение превращается в молитву-упрек. Это позволяет говорить об использовании автором жанра религиозной литературы в неканонической форме.
В романе Линдгрен совмещает реалистический и метафизический планы, использует принцип цикличности событий и поступков. В выражении универсальных размышлений писателя о человеке и его судьбе кодифицирующую функцию выполняет название. «Путь змея на скале» - цитата из притч Соломона: «Три вещи непостижимы для меня, и четыре я не понимаю: пути орла в небе, пути змея на скале, пути корабля в море и пути мужчины к девице». Т. Линдгрен берет часть этой цитаты, используя ее как метафору.
Образ змея интертекстуален: он является библейской аллегорией злого духа и - в более широком контексте - образом иррационального искушения, греха, в том числе гордыни, страха. В романе Линдгрена метафору «путь змея на скале» можно интерпретировать двояко, в соответствии с диалектической философией автора. Одна из трактовок сводится к тому, что скала - это Христос, который остается не подвержен греху-змею, т.е. зло не оставляет на нем следов, не меняет его нравственной природы. Соответственно истинно верующий остается в своей вере прочным, как скала, и зло не может разрушить его. Вторая возможная интерпретация противоположна первой: зло, подобно библейскому змею, проникает в человека незаметно, человек смиряется с ним, принимает его как должное и грешит, не замечая этого.
Линдгрен склонен рассматривать греховность как неизбывное начало человека, а это значит, что первопричина вряд ли заключена в самом человеке. В итоге два вопроса становятся в романе главными: есть ли Бог, и, если он есть, за что он наказывает человека, который вынужден жить в мире, созданном по его законам? Слабый герой ищет помощи Бога в том, что не может изменить сам. Упреки Спасителю и молитвенные обращения с надеждой быть услышанным чередуются с эпизодами из жизни, в
которых зло постоянно побеждает добро: передаваемые Юханом события служат перечнем обид бедной крестьянской семьи, в которой женщины нескольких поколений должны были расплачиваться за аренду дома своим телом. Сначала лавочник Оль-Карлса вводит правило «взимать плату» в постели тогда еще молодой и красивой матери Юхана Теи. Затем это право переходит к его сыну Карл-Орсе, который впоследствии предпочитает дочь Теи Эву, свою сводную сестру, а затем и Юханну, жену рассказчика. Как ни стараются люди избежать насилия над собой, зло постоянно подтверждает свою власть, и ничто не обнаруживает гуманного Божьего замысла. Повторяемость и обытовленность зла, описанного в ритмически медитативных молитвенных фрагментах, придает суггестивность рассказу. Лейтмотивом монолога Юхана становится фраза: «Господи, к кому нам идти?» Это цитата из Евангелия от Иоанна, в одном из эпизодов которого некоторые из учеников уходят от Христа. Иисус обращается к оставшимся, спрашивая, не хотят ли и они покинуть его, на что Симон Петр отвечает: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго» (Евангелие от Иоанна: 6:66-69). Юхан, таким образом, тоже обращается к Спасителю как к единственной надежде, но это контрастирует с изображаемым.
В то же время образы слабых героев двойственны. Они не совершают больших злодеяний, как сильные мира сего, но грешат в соответствии с малым масштабом своей жизни. Такова, например, мать Юхана. Она казалась самым светлым человеком в доме: была красивой и веселой и, пока ей хватало сил, не теряла присутствия духа, исполняла на праздниках псалмы и песни, зарабатывая на жизнь. Ее имя, как и имена других персонажей, символично. Его можно истолковать как вариант греческого слова «бог»: истинным спасителем и хранителем дома была именно она. Но и Тея небезгрешна: она родила детей вне брака, от разных мужчин. Ее дочь Эва (в оригинале - Ева) стала любовницей Карл-Орсы, чтобы вернуть скрипку, которая была для нее дороже чести. Юхан жил с будущей женой до брака, был честолюбив и прозван Юханом-бахвалом. Автор показывает, что в каждом герое есть греховное начало, хотя все они имеют оправдания своим поступкам. Таким образом, Т. Линдгрен говорит не только о божественном бездействии, но и о безнравственной природе человека. Сложную диалектику взаимоотношений человека и Бога писатель показывает через структурные особенности текста - от неканонической молитвы до ситуативных, стилистических и композиционных контрастов. Монолог героя постоянно перемежается цитатами из Библии и псалмами, однако эти псалмы, обращенные к Богу, также создают иронически-трагический подтекст.
Большое значение в романе имеет власть телесного начала, поэтому одним из предрекаемых Карл-Орсе наказаний становится отсечение у него «детородного уда». Юхан решается на такой шаг в надежде избавить жену от насилия. Герой впервые совершает зло сам, оправдывая это справедливой местью. Но Карл-Орса выздоравливает и приходит к Юханне снова - в этом сюжетном повороте вновь очевидна трагическая ирония автора: зло
приобретает не столько пугающие, сколько патологически-смеховые формы. Автор вновь заставляет задуматься над тем, кто же виновен в происходящем: сам человек или Всевышний, который его создал? Когда Юхан отказывается отдать жену Карл-Орсе, тот приводит людей обрушить их дом. В ситуации этического выбора рассказчик готовится взять на себя грех убийства и выстрелить в лавочника. Но когда он готов переступить этический порог и убить хозяина, происходит мистическое событие, не дающее ему совершить преступление:
«И аккурат в ту минуту, пока я сам набрался решимости, ты, Господи, сотворил то немыслимое, что я сейчас вижу перед собой и у себя под ногами, наконец-то ты вмешался, и Карл-Орса исчез, как не был; мой прищуренный глаз больше не видел его, тогда я повернул голову и открыл оба глаза и увидел, что все - и дом на своем фундаменте, и земля под ним, и водосбор, что Юханна посеяла у крыльца, - все это поколебалось и двинулось вниз по бугру, на котором стояло... И раздался грохот, точно обрушилась вся гора, и над обрывом, в котором скрылся дом, поднялась туча и заволокла все, и я подумал: хоть того и не может быть, а только, видать, земле невмоготу стало носить на себе Карл-Орсу.
И Юханну! И детей наших малых, которые, считай, и не жили!
И в голове у меня мелькнули слова из Писания: И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата» (317).
Но кого же наказал Господь: лавочника? Юхана? Обоих? Одна из библейских цитат, произносимых Юханом, повторяется дважды, ею завершается рассказ: «Когда Иов лишился всего, чего можно было лишиться, он сказал: А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию; И я во плоти моей узрю Бога» (316). Рассказчик, таким образом, ассоциируется с ветхозаветным Иовом Многострадальным, который произнес эти слова в час, когда лишился всего и когда его вера должна была подвергнуться испытанию еще раз. Но Юхан был готов выстрелить в ненавистного врага, следовательно, он не прошел испытания и, возможно, за это последовала расплата. В то же время обрушение могло быть результатом естественного обвала горной породы, поэтому влияние Бога на человеческую жизнь, как и само его бытие, в романе остается недоказуемым. В этом случае возникает вопрос: выражают ли последние слова Юхана-Иова укрепление его веры или, напротив, трагическую иронию! Несомненно одно - все в романе двойственно; и поступки героев, и их оценка автором; двойственно и отношение автора к Богу.
Характер поставленных вопросов позволяет говорить о влиянии на эстетику писателя не только экспрессионизма и экзистенциализма, но и постмодернизма. В этом случае перед нами текст, в котором католицизм, предполагающий мораль, сочетается с постмодернизмом, отрицающим ее. Возможно, на Т. Линдгрена оказали влияние идеи С. Кьеркегора, согласно которым жизнь героев романа можно было бы разделить на три этапа: эстетический, этический и религиозный. Несовершенство бытия приводит человека к разочарованию в идеальной картине мира (эстети-
ке) и переходу к скептическому восприятию жизни на иных основаниях (этике). Последняя ступень - уход в религиозное сознание, который знаменует собой формирование новых идеальных форм бытия, способных противопоставить земному несовершенству посмертное бытие. Однако третьего этапа в романе Линдгрена нет, если не считать заключительной фразы Юхана, интерпретация которой неоднозначна. Ирония, выраженная в романе за счет соположения отчета чиновника и молитвы Юхана, не дает читателю принять мысль Иова: «Если мы любим принимать от Бога счастье, то не должны ли переносить с терпением и несчастье?» (Иов. 2:10). Писатель, по-видимому оставляет героев на этапе разочарования после утраты идеальной картины мира, связанной с верой в разумность Божьего замысла, хотя и полностью отказаться от этой веры они не решаются. В этом контексте неудивительна экспериментальная жанровая форма романа-молитвы, которая превращается в антижанр сродни роману-антимифу 1940-1950-х гг, что отражает новый этап идеологического кризиса шведских писателей - уже середины 1980-х.
Роман Т. Линдгрена соотносится по религиозно-этической проблематике с рядом произведений русской литературы: «Жизнь Василия Фи-вейского» Л. Андреева, «Егор Булычов и другие» М. Горького, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Пирамида» Л. Леонова, но главное место в этом ряду занимает роман «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского. Влияние творчества этого писателя испытали многие шведские авторы: С. Лагерлеф, А. Стриндберг, Я. Седерберг, С. Дельбланк, Л. Алин, Б. Тротциг, П.-К. Ершильд. В отличие от своих предшественников и современников, которые отмечали взаимосвязь собственного творчества с наследием Достоевского, Горгии Линдгрен редко комментировал свои произведения, что не исключает возможности выявить в его тексте по меньшей мере типологические параллели с «Братьями Карамазовыми».
В этом романе вопрос о взаимоотношениях человека и Бога имеет величайшее значение. Не случайно творческий метод автора многие исследователи именуют «христианским реализмом»8, «духовным реализмом»9. В главе «Бунт», занимающей в произведении центральное место, представлено своеобразное решение вопроса о приятии / неприятии мира божьего и его законов - вопроса, к которому впоследствии обратится на ином материале Т. Линдгрен.
Иван Карамазов, как и Юхан Юханссон, стремится решить проблему богооставленности человека, страдающего от несправедливости и не находящего защиты. Риторический вопрос Юхана: «Господи, к кому нам идти?» - порождает ассоциацию и с монологом Мармеладова: «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти»10.
В произведениях обоих авторов можно найти множество примеров торжествующего зла. Лавочник ломает жизнь арендаторов, и на его стороне закон; помещик травит собаками ребенка и остается безнаказанным; мармеладовы страдают, а лужины процветают - все это порождает в сознании человека труднейшие вопросы о разумности мира, созданного Творцом. И у Достоевского, и у Линдгрена персонажи задаются такими вопросами, только герой Линдгрена исходит из собственных страданий и трагедии своей семьи, а Иван Карамазов, как и персонаж его поэмы, великий инквизитор, - из мучений человеческих вообще. И тот факт, что «бунт» Ивана мотивирован не столько его страданием, сколько состраданием, переводит поставленную им проблему в принципиальную плоскость, дает материал для масштабного философского обобщения.
В произведении Т. Линдгрена, где использована форма молитвы, герой прямо не выражает сомнений в существовании Творца, не отвергает религии, в традициях которой был воспитан, но его упреки, обращенные к Всевышнему, говорят о том, что вера не стала для него спасением и мир, созданный Богом, представляется ему несправедливым. То же самое отношение к Богу и миру как его творению нашло художественное воплощение столетием ранее у Достоевского в образе Ивана Карамазова, который говорит Алеше: «Я не бога не принимаю... я мира, им созданного, мира-то божьего не принимаю и не могу согласиться принять»11. Глава «Бунт» представляет собой изложение важнейших оснований неприятия мира героем. Родители, мучающие ребенка, помещик, травящий собаками мальчика, турок, стреляющий в младенца, - все это образы безнаказанного зла, как старуха-процентщица в «Преступлении и наказании», как лавочник в романе Т. Линдгрена. В произведениях Достоевского, по словам современного исследователя, в центре внимания оказывается искушение безнадежностью12-то же можно сказать и о тексте Т. Линдгрена. Само существование зла в мире есть для человека испытание веры - эту мысль выражают оба автора. Как писал Н. Бердяев, «рационально постигнуть в пределах земной жизни, почему был замучен невинный ребенок, невозможно. Сама постановка такого вопроса - атеистична и безбожна. Вера в Бога и Божественный миропорядок есть вера в глубокий, сокровенный смысл всех страданий и испытаний, выпадающих на долю всякого существа в его земном существовании»13. Но для героев Достоевского и Линдгрена вера не настолько несомненна, чтобы стать абсолютной нравственной опорой. Несправедливость порождает в них душевную боль и - как реакцию на нее -решение, неприемлемое для истинного христианина. Юхан готов убить врага, Раскольников решается пролить «кровь по совести», даже Алеша Карамазов, потрясенный жестокостью описанного Иваном преступления, произносит приговор: «Расстрелять!» - хотя тут же отказывается от него. В сознании же Ивана Карамазова протест против несправедливости и жестокости мира порождает зловещую и трагическую фигуру великого инквизитора, берущего на себя миссию избавить человечество от страданий с помощью насилия и лжи. То, что простой крестьянин Юхан Юханссон реализует в форме конкретного поступка - непосредственной реакции на зло, Иван воплощает в форму высокого философствования, обобщений мирового масштаба.
И Юхан Юханссон, и Иван Карамазов живут в рамках «эвклидовско-го» разума, не принимающего иррациональное и противоречивое начало бытия, которое Иван представил в образе пересекающихся параллельных линий. Ограниченный рациональной логикой взгляд на жизнь приводит персонажей к мысли о том, что мир устроен неправильно, а затем - и к тому, чтобы попытаться исправить его насильственным путем; Юхан принимает решение убить того, кто для него олицетворяет собой зло; Иван Карамазов устами великого инквизитора формулирует идею достижения всеобщего блага с помощью насилия и обмана. Желая восстановить справедливость, оба героя приходят к нарушению морального закона. Во многом это объясняется особенностями их религиозного сознания.
Юхан обращается к Всевышнему как к последнему прибежищу в поисках сочувствия и справедливости и в то же время сомневается в нем -точно так же Иван Карамазов колеблется между верой и безверием, а герой его поэмы великий инквизитор, с одной стороны, разговаривает с Пленником как с Христом, а с другой стороны, не верит в Бога и вечную жизнь. Персонаж Т. Линдгрена, находясь в мировоззренческих рамках, заданных религиозным воспитанием, говорит с Богом как с всеведущим Творцом, для которого нет необходимости в объяснениях: «Тебе известны обстоятельства моей жизни» (252). Но тут же он противоречит себе и начинает рассказывать: «Я все поведаю тебе, Господи» (252). В поэме Ивана кардинал фактически прямо говорит о своем неверии в Высший мир, когда предсказывает будущее людей: «Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастия будем манить их наградой небесною и вечною»14. В чем смысл обращения героев обоих произведений к Богу, если они не верят в него или, по крайней мере, испытывают мучительные сомнения? В романе Достоевского Иван объясняет поведение своего персонажа тем, что ему просто нужно высказаться, аргументировать собственную позицию, выразить эмоции, которые он долго сдерживал. Поэтому, по словам Ивана, не имеет значения, с кем именно говорит великий инквизитор: действительно ли перед ним Христос, или просто человек, или видение кардинала. Возможно, аналогичным мотивом руководствуется и Юхан, в душе которого тоже накопились невысказанные тяжелые чувства, поэтому ему и нужна представленная в произведении «молитва».
Финальная фраза: «Ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!»15 - как будто возвращает кардинала к его прежней, логично обоснованной позиции, но это не разрешает, внутреннего трагического конфликта, о чем говорит само построение фразы. В ней, казалось бы, все сказано первыми пятью словами, но тогда зачем нужно продолжение, усиление мысли, восклицание? Это способ снять сомнения, оставшиеся в душе: эмоциональный накал фразы свидетельствует о стремлении героя преодолеть себя. То же можно сказать об Иване, который собственную философскую позицию предельно логично выразил монологом своего персонажа, но в финале заставил его отступить от рационалистически обоснованного пути. И у Линдгрена, и у Достоевского герои находятся в таком состоянии, когда «ум с сердцем не в ладу», только в «Пути змея на скале» разум замыкает мысль героя в рамки христианских догматов, а эмоции этому противоречат - в произведении же Достоевского, наоборот, рациональная логика заставляет человека отказаться от христианских принципов, а дута остается «по природе христианкой», как называл ее Тертуллиан16.
«Молитва» Юхана Юханссона и поэма Ивана Карамазова, при всех очевидных различиях в сфере художественной формы, имеют некоторое сходство. В обоих случаях перед нами с формальной точки зрения монолог, который по сути является диалогом. Рассказ героя Т. Линдгрена прямо обращен к Богу и включает в себя вопросы, которые человек решить не в силах. При этом Юхан, изложив собственные сомнения, сам же отвечает на них словами Иова, выражающими мысль о спасительности веры, т.е. сам репрезентирует позицию воображаемого собеседника. Такое же внутренне диалогичное высказывание представлено в поэме Ивана Карамазова: великий инквизитор вступает в полемику с Пленником, причем последний не произносит ни слова, потому что сам кардинал излагает суть позиции, с которой спорит. В обоих случаях герой фактически ведет диалог с самим собой, поскольку его мировоззренческая концепция, как говорилось выше, основана на противоречии.
В этом можно усмотреть одну из причин того, что и позиция автора в рассматриваемых произведениях трудно поддается истолкованию. И там, и здесь писатель стремится объективировать повествование, не выдвигая собственную интенцию на первый план, скрывая ее за образом героя. Форма «я-повествования» в романе Т. Линдгрена задает перспективную структуру, которая на первый взгляд вообще не предполагает «посредничества» автора между героем и читателем. Однако рамочная конструкция, напомним, трансформирует наррацию, делая ее двухуровневой. В «Легенде о великом инквизиторе» повествование с этой точки зрения трехуровневое: монолог кардинала заключен в рамочную конструкцию, представленную рассказом и комментарием Ивана Карамазова, и, наконец, сам этот рассказ является вставной новеллой в романе. Оба варианта перспективной структуры актуализируют позиции персонажей и дают большие возможности для интерпретаций идеи автора. Но в любом случае авторская интенция обнаруживает себя в «диалоге» различных дискурсов. Т. Линдгрен пред- ставляет картину мира, в которой ценности девальвированы, истина амбивалентна, человек одинок и не способен постигнуть смысл бытия, тогда как в романе Достоевского, при всей неоднозначности взглядов героев, в конечном итоге выражена надежда на торжество добра: великий инквизитор отпускает Пленника, Иван признает ответственность за убийство отца, Дмитрию через сон открывается сострадание, Алеша видит будущее в детях. Как пишет А. Татаринов, Достоевский - при всей катастрофичности изображаемых им событий и переживаний героев - не ограничивается апокалиптическим чувством, его картина мира тяготеет к более широкому понятию - к эсхатологии, подразумевающей под собой учение о конечных судьбах мира, тогда как Апокалипсис лишь событие, хотя и ключевое, в границах этого учения. Мир Достоевского не апокалиптичен, а эсхатоло-гичен, т.к. его произведения свидетельствуют о возможности преодолеть зло и найти начало вечной жизни17.
Персонажи Т. Линдгрена и Ф.М. Достоевского являются современниками: в «Пути змея на скале» действие происходит в начале 80-х гг. XIX в., а «Братья Карамазовы» создавались на рубеже 1870-1880-х и представляли современную для автора действительность. Не случайно вопросы, связанные с кризисом религиозного мировоззрения, возникали в сознании людей конца XIX в., когда под влиянием науки, позитивизма менялось привычное восприятие мира, постепенно приходило понимание неочевидности истин, несомненных ранее. Но и XX в. не избежал подобных проблем, которые лишь усугубились из-за трагических событий и социальных противоречий. Поэтому неудивительно, что вопросы о соотношении добра и зла, о разумности мира, о вере и безверии актуализируются и в произведении конца XX столетия.
Список литературы Роман-молитва Т. Линдгрена "Путь змея на скале" в контексте традиций Ф. М. Достоевского
- Lindgren T. Ormens väg på hälleberget. Stockholm, 1982.
- Линдгрен Т. Путь змея на скале/пер. с швед. Л. Горлиной. М., 1991.
- Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм: очерки исторической поэтики. Ека-теринбург, 1997. С. 46-47.
- Nilsson M. Existens och ironi. Ormens väg på hälleberget (1982), Bat Seba (1984) och Ljuset (1987)//Nilsson M. Mångtydigheternas klarhet. Om ironier hos Torgny Lindgren. Från Skolbagateller till Hummelhonung. Lund, 2004. S. 139-140.
- Pehrson I. Livsmodet i skrönans värld. En studie i Torgny Lindgrens romaner "Ormens väg på hälleberget", "Bat Seba" och "Ljuset". Uppsala; Stockholm, 1993.
- Tyrberg A. Anrop och ansvar. Berättarkonst och etik hos Lars Ahlin, Göran Tunström, Birgitta Trotzig, Torgny Lindgren. Bjärnum, 2002.
- Edqvist S.G. Ondskan och ordets väg // Svenska författarna genom tiderna. Stockholm, 1998. S. 411-412; Torgny Lindgren. Ormens väg på hälleberget // Berömda svenska böcker. En litterär uppslagsbok / huvudred. S. Bergsten. Stockholm, 2004. S. 181-182.
- Захаров В.Н. Имя автора -Достоевский. Очерк творчества. М., 2013;
- Есаулов И.А. Христианский реализм как художественный принцип русской классики//Феномен русской духовности. Калининград, 2007. С. 9-20;
- Тарасов Б.Н. Метафизика денег в творчестве Бальзака и Достоевского//Проблемы исторической поэтики. 2015. № 13. С. 198-233.
- Дунаев М.М. Православие и русская литература: в 6 ч. Ч. 3. М., 2000;
- Любомудров А.М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б.Е. Зайцев, И.С. Шмелев. СПб., 2003.
- Достоевский Ф.М. Преступление и наказание//Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 6. Л., 1973. С. 14.
- Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы//Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 14. Л., 1976. С. 214.
- Татаринов А. Под знаком Апокалипсиса//Литературная Россия. 2007. № 23. 8 июня.
- Бердяев Н.А. Духи русской революции//Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 264.
- Тертуллиан. Апологетик. К Скапуле/пер. с лат. А.Ю. Братухина. СПб., 2005.
- Татаринов А. Под знаком Апокалипсиса//Литературная Россия. 2007. № 23. 8 июня.