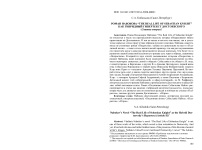Роман Набокова “The real life of Sebastian knight” как гибридный гипертекст Достоевского. Статья вторая
Автор: Кибальник Сергей Акимович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (53), 2020 года.
Бесплатный доступ
Роман Владимира Набокова “The Real Life of Sebastian Knight” не относится к числу тех произведений писателя, которые обнаруживают явную ориентацию на Достоевского. И тем не менее в нем есть как явные, так и достаточно скрытые следы присутствия образов русского классика. Набоков, кажется, нигде не упоминает роман «Подросток», однако его ориентация на него в «Подлинной жизни…» имеет столь значительный характер, что как раз неупоминание его писателем нигде и никогда представляется весьма значимым. Тем более что в развитии главной сюжетной коллизии его романа есть герои и образы, навеянные «Подростком». В первой из двух статей, посвященных отзвукам «Подростка» в романе Набокова, наше внимание было сосредочено преимущественно на общности некоторых сюжетных линий и образов: Себастьяна и их общего с В. отца, с одной стороны, и Версилова, с другой, В. и Аркадия Долгорукого, первой жены отца Себастьяна Вирджинии и первой жены Версилова Фанариотовой, подруги Клэр мисс Пратт и «тетушки» Аркадия Татьяны Павловны Прутковой. Во второй статье речь идет о явном сходстве некоторых других героев этих двух романов: мадам Лесерф с Катериной Николаевной и Анной Андреевной Ахмаковыми, Клэр - с матерью Аркадия Софьей Андреевной, а также Пальчина с Бьорингом. Детальный анализ этой «обязательной» и «факультативной», по М. Риффатеру, интертекстуальности романа Набокова с произведением Достоевского и представляет собой настоящая статья. Роман «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» рассматривается в статье как явление «гибридной интертекстуальности», поскольку вторая часть его движется уже по сюжетным рельсам и мотивам не столько «Подростка», сколько другого романа Достоевского - «Игрок».
Набоков, достоевский, роман, литература, русский, англоязычный, интертекстуальный, "подлинная жизнь себастьяна найта", "подросток", "игрок"
Короткий адрес: https://sciup.org/149127252
IDR: 149127252
Текст научной статьи Роман Набокова “The real life of Sebastian knight” как гибридный гипертекст Достоевского. Статья вторая
Как было уже отмечено в первой нашей статье на настоящую тему, основная сюжетная коллизия «Подростка», связанная с наличием у Аркадия письма, компрометирующего Катерину Николаевну (так же, как и многое другое в романе Достоевского), в «Подлинной жизни...» существенным образом редуцируется. В результате центральную сюжетную линию романа образуют поиски В. женщины, в которую Себастьян влюбился незадолго до смерти, и его попытки понять, как он мог ради нее покинуть Клэр.
В «Подростке» никаких поисков, разумеется, нет. Однако стремление Аркадия избавить Версилова от его пагубного увлечения: «...Версилов, увидав, какая она мерзкая, разом вылечится, а ее выгонит пинками», «.. .с него надо сорвать пелену: пусть увидит, какова она, и излечится. <...> О, он любит маму; он целовал ее портрет; он прогонит ту на другое утро, а сам придет к маме...» (здесь и далее курсив мой - С.К.) [Достоевский 1975, 419, 420] - типологически соответствует недоумению В. по поводу «последней, темной любви» Себастьяна [Набоков 2004, 135].
Впрочем, отношение самого Себастьяна к мадам Лесерф отчасти напоминает то, как Версилов воспринимает свою собственную «страсть» к Катерине Николаевне: «...я могу вас очень ненавидеть, больше, чем любить... <...> Мне жаль только, что я полюбил такую, как вы...» [Достоевский 1975, 416]. Причем Себастьяну и Версилову вторят в этом В. и Аркадий. Вспомним, например, реплику последнего: «...этакая насильственная, дикая любовь действует, как припадок, как мертвая петля, как болезнь и - чуть достиг удовлетворения - тотчас же упадает пелена и является противоположное чувство...» [Достоевский 1975, 420].
Правда, она не избавляет самого Аркадия от увлечения Катериной Николаевной. Однако и этот мотив - хотя и снова в чрезвычайно редуцированном виде - также представлен в «Подлинной жизни...». Мадам Лесерф пытается соблазнить В., и это ей едва не удается: «...какой-то миг я помышлял о том, чтобы предаться любви с этой женщиной» [Набоков 2004, 161]. Разумеется, между мадам Лесерф и Катериной Николаевной - «дистанция огромного размера», но в глазах брата в романе Набокова и сына в романе Достоевского обе они представляют собой хотя и притягательную, но угрозу.
В то же время в замечании мадам Лесерф о Себастьяне: «Знаете, женщинам не очень нравятся мужчины с idee-fixe» [Набоков 2004, 159], - возможно, отозвалось отношение Катерины Николаевны к Версилову: «Я люблю. .. я люблю веселых людей. ..<...> Мне кажется, если б вы меня могли меньше любить, то я бы вас тогда полюбила...» [Достоевский 1975, 414]. Больше того, в автохарактеристиках мадам Лесерф, возможно, пародируется версиловский идеал «живой жизни». Ср. у Набокова: «А моя подруга, она, знаете, скорее беззаботная, вернее, была такой, tres vive...», «Она была так переполнена жизнью, готовностью всех приласкать, так полна этой vitalite joy euse qui est, d’ailleurs, tout-a-tait conforme a une philosophie innee, a un sens quasi-religieux des phenomenes de la vie» («веселой жизненной силой, которая, впрочем, вполне отвечает внутренней философии, почти религиозному отношению к жизни» (фр.))» [Набоков 2004, 154, 155, 567-568] - и у Достоевского: «...это должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное...» [Достоевский 1975, 178].
«Приятно спокойная дама со спокойными движениями» [Набоков 2004, 148] - вот какое впечатление мадам Лесерф производит на В. во время первой встречи с ней. «Спокойно» отвечает она герою на его вопросы и позднее, в Леско [Набоков 2004, 163]. В «Подростке» «спокойствие» присуще многим персонажам: Соне, Васину [Достоевский 1975, 9, 328, 393], - однако в первую очередь это черта Анны Андреевны: «она всегда произносила спокойно и тихо», «спокойно произнесла она». Версилов именно так «ее давно уже» называет: «спокойная девица» [Достоевский 1975, 194, 197, 243, 410]. И Настасья Егоровна, и Аркадий словуно вторят друг другу, отмечая: «- Оне очень спокойны-с, очень. - Она и всегда была спокойна. - Всегда-с» [Достоевский 1975, 295].
Присуще «спокойствие» и Катерине Николаевне, но это спокойствие тихое и величавое: «Еще люблю ваше спокойствие, вашу тихость и то, что вы выговариваете слова плавно, спокойно и почти лениво...», «- О, я не страстная, я - спокойная...», «прекрасная и, по-видимому спокойная, как всегда», «- Да я - самая обыкновенная женщина; я - спокойная женщина, я люблю...», «...мне за ним будет всего спокойнее» [Достоевский 1975, 203,368,413,414].
У мадам Лесерф, напротив, спокойствие равнодушное, в сочетании с хитростью и цинизмом: «...я ощущал, что ее легкомысленно малопри- стойный взгляд на мое расследование чем-то оскорбителен для памяти Себастьяна» [Набоков 2004, 152]. Именно таково оно и у Анны Андреевны: «.. .она слушала меня потупившись, с какою-то хитренькою, но милою усмешкой», «Никогда не забуду и не прощу ей того жадного, но безжалостно спокойного и самоуверенного любопытства, с которым она меня выслушала...» [Достоевский 1975, 197, 410]. При этом спокойствие мадам Лесерф внешне также обманчиво похоже на спокойствие Клэр: «сказала она спокойно...», «Людям она нравилась, в ней была спокойная приятность, очаровательное неяркое лицо...» [Набоков 2004, 33, 90].
Соотнесены с героями «Подростка» и многие другие герои «Подлинной жизни...». Так, предыстория Клэр содержит некоторые элементы, отдаленно перекликающиеся с предысторией матери Аркадия. Ср. у Набокова: «Клэр, когда она встретила Себастьяна, исполнилось двадцать два года. Отца она не помнила, мать умерла тоже, а отчим женился опять...» [Набоков 2004, 90] - и у Достоевского: «Софья Андреевна (эта восемнадцатилетняя дворовая, то есть мать моя) была круглою сиротою уже несколько лет...» [Достоевский 1975, 8].
Набоков наделяет Клэр и некоторыми чертами внешности Софьи Андреевны: «Даже в ее довольно больших, с крупными костяшками, руках таилось редкое очарование...» [Набоков 200, 90]. Ср. у Достоевского: «Она стыдилась и вспыхивала, когда я иногда смотрел на ее руки и пальцы, которые у ней совсем не аристократические» [Достоевский 1975, 381]. Правда, при этом Версилова все время мучает воспоминание о «вечной приниженности» Сони перед ним [Достоевский 1975, 381]. Другая общая их черта - это «впалые щеки». Ср. портретное изображение Клэр В.: «Она была неброско хороша: бледная, чуть веснущатая кожа, слегка впалые щеки...» [Набоков 2004, 82] - и Сони по рассказам Версилова: «Я сладко глядел ей в глаза, тихо и нежно смеялся, а другой ладонью гладил ее милое лицо, ее впалые щеки», «За границей, в “тоске и счастии” <...> он вдруг вспомнил о маме - и именно вспомнил ее “впалые щеки”...», «Началось с ее впалых щек, которых я никогда не мог припоминать, а иногда так даже и видеть без боли в сердце...» [Достоевский 1975, 291, 380, 381] - и по описаниям Аркадия: «Щеки ее были очень худы, даже ввалились...» [Достоевский 1975, 83].
Однако главное, что их роднит - это особая одаренность натуры. Ср. у Набокова: «Она принадлежала к тем редким, исключительно редким женщинам, что не принимают мир как данность и видят в повседневных вещах не просто знакомые зеркала собственной женственности» [Набоков 2004, 91] - и у Достоевского: «...это лучшая из всех женщин, каких я встречал на свете», «...в жизни моей я не встречал с таким тонким и догадливым сердцем женщины» [Достоевский 1975, 104-105, 382].
Обеим героиням присуща естественность их совместной жизни - соответственно, с Себастьяном и Версиловым. Ср. у Набокова: «Она вошла 188
в его жизнь без стука, как входишь в чужую комнату из-за ее неуловимого сходства с твоей. <...> было просто естественное приятие жизни с Себастьяном, потому что жизнь без него представить было труднее, чем земную палатку в лунных горах», «... она так впору пришлась его жизни...» [Набоков 2004, 89-90] - и у Достоевского: «Главным характером всего двадцатилетия связи нашей было - безмолвие. Я думаю, мы даже ни разу не поссорились» [Достоевский 1975, 104-105].
Как и Версилов с Соней (которая остается замужем за Макаром Долгоруким), Себастьян не вступает в брак с Клэр. Однако у Набокова это мотивировано иначе - менее драматичным, но зато более современным образом: «Если бы она родила ему ребенка, они, весьма вероятно, незаметно пришли бы к браку, потому что для всех троих он стал бы простейшим выходом...» [Набоков 2004, 89-90].
Впрочем, одновременно портретное изображение беременной Клэр: «Я узнал ее, хоть лицо у нее теперь было измученное, а тело неожиданно располневшее. Она шагала медленно, грузно; и, пересекая улицу по направлению к ней, я понял, что она - на сносях. <.. .> в немногие эти мгновения меня потрясло совершенно ясное сознание того, что мне нельзя ни заговаривать с нею, ни даже поздороваться так или иначе. Это сознание не имело ничего общего ни с Себастьяном, ни с моей книгой, ни с перекорами между м-ром Бишопом и мной, но единственно - с ее величавой сосредоточенностью» [Достоевский 1975, 88-89] - представляет собой как будто бы отзвук аналогичной картины в финале «Подростка», на которой запечатлена сестра Аркадия: «Лиза осталась одна, с будущим своим ребенком. Она не плакала и с виду была даже спокойна; сделалась кротка, смиренна; но вся прежняя горячность ее сердца как будто разом куда-то в ней схоронилась» [Достоевский 1975, 450].
В то же время ласковый вид и улыбка Лизы как будто переданы в романе Набокова Елене Гринштейн. У нее «ласковые глаза»: «Она была очень молода и изящна, с маленьким припудренным лицом и удлиненными, ласковыми глазами, казалось, вытянутыми к вискам», «спросила она, вглядываясь в меня неяркими, ласковыми глазами, чем-то напомнившими мне Клэр» [Набоков 2004, 134]. В «Подростке» это черта Лизы Версиловой: «ласково на меня посмотрев», «с ласковым видом ответила Лиза», «она ласково мне улыбалась» [Достоевский 1975, 84, 86, 133].
По-видимому, неслучайно дочь Елены Набоков называет «Соней», то есть по имени матери Лизы. Ведь она принадлежит к тому же типу личности: «...она, разумеется, и не могла оказаться той, которая столько несчастий принесла Себастьяну. Девушки, подобные ей, не ломают жизнь мужчины - они ее строят» [Набоков 2004, 134, 135].
Картавость Себастьяна в английской и особенно во французской речи: «Его начальные “г” раскатывались и рокотали, он делал смешные ошибки», «Gah-song, - сказал Себастьян. Я и прежде замечал, что он старается говорить по-французски, как то пристало подлинному трезвому британцу» [Набоков 2004, 63, 83] - отдаленно соответствует постоянной фран- цузской картавости Ламберта: «- Хнычешь, чего ты хнычешь, дурак, духгак!», «“Духгак, духгак'?’ - шепчет он, изо всех сил удерживая меня за руку...», «- Я тебе говорю, это - все ужасная шушехга» [Достоевский 1975, 273,274,305].
Также отмечены параллелизмом образы Пальчина и Бьоринга. Ср. у Набокова: «Пальчин был хам и дурак. ..» [Набоков 2004, 34] - и у Достоевского: «Кричал же Бьоринг на Анну Андреевну, которая вышла было тоже в коридор за князем; он ей грозил и, кажется, топал ногами - одним словом, сказался грубый солдат-немец, несмотря на весь “свой высший свет”. <.. .> он налетел еще в том состоянии взбесившегося господина, в котором даже и остроумнейшие люди этой национальности готовы иногда драться, как сапожники» [Достоевский 1975, 436]. Этнокультурная мотивировка характера героя у Достоевского не отменяет, тем не менее, существенного сходства между ним и героем Набокова.
Набоков, правда, кажется, нигде не упоминает роман «Подросток», даже в своих позднейших «Лекциях о русской литературе». Однако это скорее естественно, поскольку его очерк биографии и творчества Достоевского (предваряющий конкретный анализ «Преступления и наказания», «Записок из подполья», «Идиота» и «Бесов») довольно краток, а «Подросток» не принадлежит к числу самых известных произведений писателя. К тому же ориентация писателя на этот роман в «Подлинной жизни...» имеет столь значительный характер, что как раз неупоминание его Набоковым нигде и никогда весьма значимо.
Разумеется, Набоков хорошо ощущал тесную связь своего творчества 1920-1930-х гг. с классическими произведениями Достоевского и, очевидно, с полным основанием полагал невыгодным - в особенности он осознал это уже в американский период своего твочества - наводить своих читателей еще на один факт подобного рода. Тем более что ему и без того приходилось читать в свой адрес упреки в своей вторичности по отношению к Достоевскому. Вспомним хотя бы, например, известную рецензию Ж,-П. Сартра на «Отчаяние», в котором он называет Набокова «писателем-поскребышем», имея в виду «духовных родителей Набокова, и прежде всего Достоевского» [Сартр 1997, 262]. Гипертекстуальность же «Подлинной жизни...» по отношению к «Подростку» и «Игроку» давала для них даже больше оснований, чем гипертекстуальность «Отчаяния» по отношению к «Преступлению и наказанию». Кстати, тот же Сартр отмечал, что герой «Отчаяния» «похож на персонажей “Подростка”, “Вечного мужа”, “Записок из мертвого дома”...» [Сартр 1997, 262-263].
Вспомнив принципы перевода, свойственные литературной культуре XIX века, которыми, в частности, руководствовался сам Достоевский в своем переводе «Евгении Гранде» Бальзака (у него получился очень свободный сокращенный перевод), можно сказать, что в «Подлинной жизни...» Набоков также в своем роде «перевел» некий гибридный текст
Достоевского, образованный скрещиванием «Подростка» с «Игроком», с русского на английский язык. Если в таком утверждении и будет преувеличение, то не такое уж гигантское.
Впрочем, два главных героя «Подлинной жизни...» на протяжении большей части действия достаточно молодые люди, а в первых трех главах - даже еще дети, отроки и юноши, то есть как раз «подростки». Так что чтение или перечитывание Набоковым перед началом и в ходе работы над ее созданием романа Достоевского «Подросток» представляется более чем уместным, а сопоставительный анализ двух произведений не оставляет относительно этого никаких сомнений. Тем более что первые отзвуки этого романа Достоевского проявляются как раз в конце третьей главы «Подлинной жизни...», а последние - в восьмой. Таким образом, в основном они относятся к первой половине романа.
Как только эти отзвуки стихают, в романе сразу, уже в конце восьмой главы, начинают звучать мотивы другого романа Достоевского - «Игрок». Отдельные образы Набокова: мистер Бишоп, мадам Лесерф, Себастьян, В. - отчасти стилизованы уже под героев этого романа Достоевского: мистера Астлея, M-lle Blanche, Алексея Ивановича.
Недаром в своем берлинском докладе 1931 года «Достоевский без достоевщины» Набоков высоко отзывался о Достоевском именно как о художнике [см. о нем: Бойд 2001, 424-425; Долинин 2004, 204-206]. Детальное знакомство писателя с Достоевским едва ли не во всем объеме его творчества в это время совершенно очевидно [см., например: Целкова 2011; Меерсон 2007].
Для творчества Набокова 1920-1930-х гг. вообще довольно характерна именно гибридная «Достоевская» интертекстуальность. Так, «Отчаяние» представляет собой гипертекст «Преступления и наказания», с той разницей, что история главного героя - убийцы рассказана устами не Раскольникова, а, скорее, героя «Братьев Карамазовых» Смердякова (причем этот гипертекст одновременно скрещен с мотивами и образами «Двойника»), Такой же «гибридный гипертекст» представляет собой роман Набокова «Подлинная жизнь...» по отношению к «Подростку» и «Игроку» Достоевского.
Впрочем, детальный анализ обязательных и факультативных интер-тектекстуальных связей «Подлинной жизни...» с «Игроком» заслуживает специального рассмотрения в отдельной работе.
Список литературы Роман Набокова “The real life of Sebastian knight” как гибридный гипертекст Достоевского. Статья вторая
- Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы. Биография. СПб., 2001.
- Долинин А.А. Набоков, Достоевский и достоевщина // Долинин А.А. Истинная жизнь писателя Сирина. СПб., 2004. С. 199-213.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 13. Л., 1975.
- Набоков В.В. Подлинная жизнь Себастьяна Найта // Набоков В.В. Собрание сочинений американского периода: в 5 т. Т. 1. СПб., 2004. С. 27-191.
- Меерсон О. Набоков - апологет: Защита Лужина или защита Достоевского? // Достоевский и XX век: В 2 т. Т. 1 / под ред. Т.А. Касаткиной. М., 2007. С. 358-381.
- Сартр Ж.-П. Владимир Набоков. "Отчаяние" // В.В. Набоков: pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей). СПб., 1997. С. 262-264.
- Целкова Л. Романы Владимира Набокова и русская литературная традиция. М., 2011.