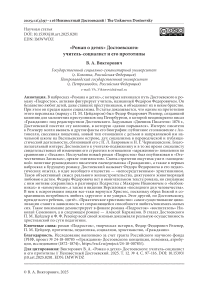«Роман о детях» Достоевского: учитель-социалист и его прототипы
Автор: В.А. Викторович
Журнал: Неизвестный Достоевский @unknown-dostoevsky
Статья в выпуске: 4 т.12, 2025 года.
Бесплатный доступ
В набросках «Романа о детях», с которых начинался путь Достоевского к роману «Подросток», активно фигурирует учитель, названный Федором Федоровичем. Он беззаветно любит детей, даже ставших преступниками, и объединяет их в некое братство. При этом он предан идеям социализма. В статье доказывается, что одним из прототипов этого персонажа (наряду с П. М. Цейдлером) был Федор Федорович Резенер, создавший колонию для малолетних преступников под Петербургом, о которой неоднократно писал «Гражданин» под редакторством Достоевского. Задумывая «Дневник Писателя» 1876 г., Достоевский посетил эту колонию, в которую «давно порывался». Интерес писателя к Резенеру могли вызвать и другие факты его биографии: публичное столкновение с Антонелли, снесенная пощечина, новый тип отношения с детьми в направляемой им начальной школе на Васильевском острове, дух социализма в переводческой и публицистической деятельности, сблизившей его с П. Л. Лавровым и Н. Г. Чернышевским. Благожелательный интерес Достоевского к учителю-подвижнику и в то же время социалисту свидетельствовал об изменении его стратегии в отношении «зараженного» поколения по сравнению с «Бесами». Неслучайно новый роман «Подросток» был опубликован в «Отечественных Записках», органе «нигилистов». Смена стратегии ощутима уже в «молодежной» политике руководимого писателем еженедельника «Гражданин», а также в первых набросках к будущему роману. Достоевский называет Федора Федоровича в его педагогических опытах, в идее всеобщего отцовства — «непосредственным» христианином. Таков объективный смысл реального жизнестроительства, диктуемого животворящей любовью к детям. Федора Федоровича нет в окончательном тексте романа, но связанные с ним мотивы сохранились в разговорах Подростка с Макаром Ивановичем о «безбожниках» и «коммунизме», а также в видении Версиловым «последнего дня человечества». В нем к осиротевшим людям все-таки вернулся Христос, поскольку образ Божий в сохранивших потребность любить «другого» и не умирал. Этот другой, по Достоевскому, прежде всего ребенок, «дитё». «Практическое христианство» самое существование цивилизации ставит в зависимость от сохраняющейся способности любить/понимать малых сих. Такое понимание демонстрирует в финале романа «Подросток» «воспитатель» Николай Семенович, а в следующем романе — Алексей Карамазов. В глазах Достоевского П. М. Цейдлер и Ф. Ф. Резенер всей своей жизнью доказывали реальную осуществимость христианской по сути педагогики.
Роман «Подросток», творческая история, Федор Федорович Резенер, П. М. Цейдлер, прототипы, педагогика, социализм, христианство, «Гражданин»
Короткий адрес: https://sciup.org/147252506
IDR: 147252506 | DOI: 10.15393/j10.art.2025.8201
Текст научной статьи «Роман о детях» Достоевского: учитель-социалист и его прототипы
В первых набросках к будущему роману «Подросток», писавшихся с февраля до июля 1874 г., упоминается герой «школьный учитель» [Д30; т. 16: 5].
Тогда, на первых порах, разрабатывался замысел «РОМАН О ДЕТЯХ, ЕДИНСТВЕННО О ДЕТЯХ, И О ГЕРОЕ-РЕБЕНКЕ» [Д30; т. 16: 5] и учителю были присвоены выразительные подробности:
«Федор Петрович (любитель детей и кормилица).
Федор Петр<ович>, обращаясь к детям по исполнении их поручений, говорит: "Господа, я ваши дела исполнил и спешу дать вам отчет". Или: "Господа, я прочел такую-то книгу", и вдруг рассказывает им о Шиллере или о чем-нибудь политическом и т. д. (NB. Сам взрослый ребенок и лишь проникнут сильнейшим живым и страдальческим чувством любви к детям)» [Д30; т. 16: 5–6].
Вскоре имя героя уточняется — он теперь Федор Федорович, и под этим именем он пройдет по всем страницам первой редакции замысла, претендуя на роль одного из главных героев. «Судя по количеству первоначальных записей о Федоре Федоровиче, ему намечалась такая же центральная роль, как и у князя Мышкина» [Долинин: 59]. Так, он собирает вокруг себя детей, повторяя швейцарский опыт князя Мышкина и предваряя Алексея Карамазова:
«У оравы детей советник и руководитель Федор Федорович, идиот» [Д30; т. 16: 9].
В то же время «бессознательная страсть к детям» [Д30; т. 16: 11], разумеется, чужим (своих у него нет), не понята женой и расстраивает его отношения с ней.
Особое значение писатель придает политическим взглядам героя: он как будто продолжает тему учителя-шигалёвца из «Бесов», но при этом освобождает его от «бесовского» начала — аннигиляции личности. Личность Федора Федоровича самобытна и исполнена благородства, о нем говорится без того разящего сарказма, что определял памфлетное изображение «наших» в предыдущем романе. Теперь очевидно некоторое эпическое проникновение:
« Фед < ор > Фед < орови > ч уверовал в смысл коммунизма» [Д30; т. 16: 15].
В конечном счете он представляет вместе со старшим братом (ОН, будущий Версилов) два полюса романа:
«Фед<ор> Фед<орович> — социалист и фанатик <…>, а старший — скептик и ничему не верующий. Фед<ор> Фед<орович> — весь вера, а ОН — весь отчаяние» [Д30; т. 16: 14].
«Вера» Федора Федоровича, разумеется, в грядущее царство коммунизма.
Между двумя братьями оказывается третий, будущий Подросток. Так складывается троичная композиция романа, сохранившаяся в окончательной редакции, только на смену коммунисту Федору Федоровичу придет, по остроумному замечанию А. С. Долинина, странник Макар [Долинин: 52, 133–134].
«Итак, один брат — атеист. Отчаяние.
Другой — весь фанатик.
Третий — будущее поколение, живая сила, новые люди» [Д30; т. 16: 16].
Свои убеждения, доведенные до «фанатизма», Федор Федорович передает обожающим его ученикам, детской «ораве», подкупленной сердечным простодушием учителя и готовой ему верить:
«Воспламеняет детей учениями коммунизма» [Д30; т. 16: 15].
Федор Федорович продолжает тему князя Мышкина, он второй из трех «идиотов» Достоевского: следующий детоводитель Алексей Карамазов в черновиках также будет назван идиотом («Имеет ли право Идиот держать такую ораву приемных детей, иметь школу и проч.?» [Д30; т. 15: 199]). Федор Федорович, как и те двое, созидатель детского братства, при этом он — социалист и коммунист (оба определения на равных присутствуют в черновых набросках).
До сей поры не ставился вопрос о прототипах Федора Федоровича. Между тем, как указывал А. Л. Бем, раскрытие прототипов «иногда бросает неожиданный свет на все произведение, уясняя его направленность, т. е. давая возможность тем самым исследователю установить его телеологию, которою определяется в конечном счете вся структура произведения» [Бем: 250].
Один из них — Федор Федорович Резенер (1825–1881), представитель так называемой гуманистической педагогики [Михайлова]. Авторитетный деятель русской педагогики В. П. Острогорский так характеризует его:
«…оригинальный, можно сказать, единственный видѣнный мною въ жизни, настоящій педагогъ по-призванію», «необыкновенный человѣкъ» 1 .
С 1871 по 1873 гг. Резенер был директором ремесленного приюта под патронажем созданного недавно «Общества для устройства в России земледельческих колоний и ремесленных приютов». В сборнике «Гражданин» (СПб., 1872. Ч. 1. С. 249-269) была напечатана статья о приюте и роли Резенера «Спасенные мальчики» за подписью «Сведущий человек». Это было первое у нас воспитательное учреждение для малолетних преступников, существовавшее на частные пожертвования. О трудном его выживании в 1873 г. неоднократно писал «Гражданин» Достоевского. Кстати, в набросках к новому роману писатель планировал поле деятельности литературного Федора Федоровича: «Дети-преступники» [Д30; т. 16: 6]. Сопоставим даты: первые записи к роману, где упомянут учитель, пока еще названный по ошибке памяти «Федором Петровичем (любителем детей)», относятся к февралю 1874 г., а «Гражданин» взывал к поддержке возглавляемой Резенером детской колонии в заметке В. Ф. Пуцыковича и Ф. М. Достоевского 3 сентября 1873 г.2 и в «Петербургском обозрении» В. П. Мещерского 26 марта и 15 октября того же года. Параллельно в восьми номерах «Русского Мира» была опубликована обширная статья о жизни приюта3, в частности, о том, что Ф. Ф. Резенером была внедрена система детского самоуправления и полного доверия между воспитателем и воспитуемыми.
Важно понять, откуда у Резенера этот фундаментальный принцип уважения к личности ребенка — не только от усвоенных идей Песталоцци, пропагандистом которых он стал. Еще важнее тот факт, что наш герой был выпускником Гатчинского сиротского института, одним из лучших учеников подвижника этого заведения (в 1830–1842 гг.) Егора Осиповича Гугеля. Того самого ревнителя соучастного воспитания, что решительно отказался смотреть на свое дело как на ремесло. Последователь Гугеля В. Ф. Одоевский увидел в нем неоцененного гения педагогии (так тогда именовалась педагогика), открывателя новых подходов:
«Надобно было видѣть его въ кругу дѣтей; надобно было видѣть дѣтей во-кругъ него, оживленныхъ его рѣчью; казалось, съ каждымъ ребенкомъ онъ употреблялъ особый пріемъ разговора; съ каждымъ онъ говорилъ языкомъ, ему вполнѣ-понятнымъ. Какъ глубоко зналъ онъ всѣ сокровеннѣйшіе изгибы дѣтскаго ума, съ какимъ материнскимъ сочувствіемъ онъ выводилъ на свѣтъ мысли или понятія, запавшія въ тайникѣ души младенческой, за минуту ей-самой неизвѣстныя; казалось даже, что онъ обладалъ даромъ, кото-рымъ еще не могъ похвалиться ни одинъ педагогъ, — даромъ предугадывать отвѣтъ ребенка. Здѣсь любовь и наука достигали степени истиннаго вдохновенія; лишь высокая душа могла такъ глубоко понимать младенческую душу. Педагогія была жизнію Гугеля; элементарное преподаваніе такъ сроднилось съ его душою, что его истинно-геніальные разговоры съ дѣтьми казались ему дѣломъ весьма-обыкновеннымъ…» 4 .
Достойным преемником Гугеля в Гатчинском сиротском институте был Петр Михайлович Цейдлер, давний знакомый Достоевского, напечатавшего о нем блок из двух статей в «Гражданине» 26 февраля 1873 г. В первой из них, вероятно, написанной В. П. Мещерским в соавторстве с Достоевским (см. подробнее: [Викторович, 2003]), говорилось:
«Цейдлеръ былъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ русскихъ педагоговъ ны-нѣшняго времени но, не въ силу самозванства на призванie, на которое въ нынѣшнiй вѣкъ такъ падки люди не знающiе куда дѣваться, не въ силу также изобрѣтенныхъ имъ методовъ и написанныхъ проектовъ, не въ силу наконецъ и административныхъ распоряженiй и чинопроизводствъ, нѣтъ, а просто за просто въ силу душевнаго, глубоко искренняго и выcoко-пpoстаго призванiя къ воспитательному влiянiю на дѣтей» 5 .
Вторая статья «Гражданина» вносила некоторые конкретные подробности жизни Цейдлера, которые отозвались затем в долгих размышлениях Достоевского о том, что такое педагог «по призванию». Сам в детстве пережив судьбу подкидыша, Цейдлер, еще будучи чиновником, заботился о брошенных родителями беспризорных детях:
«Случалось, что онъ пытался выработать человѣка изъ простаго, безграмот-наго, взятаго съ улицы, съ поденной работы юноши; случалось ему браться за возстановленiе нравственной личности падшаго; случалось ошибаться въ выборѣ, разочаровываться въ попыткахъ, — но всѣ ошибки и разочарованiя нисколько не охладили его душевной теплоты и не ослабили его сердечныхъ влеченiй до конца» 6 .
Очевидно, эта подробность жизни Цейдлера (знакомого Достоевскому еще с юности) отразилась в набросках 1870 г. к «Житию великого грешника»:
«Кончает воспитательным домом у себя и Гасом становится» [Д30; т. 9: 139].
Позднее в наброске Достоевского «Сюжеты для романов» (как мы доказали, относящемся к первой половине 1873 г., см.: [Викторович, 2003: 127–132]) есть запись:
«Чиновник. Подкидыши» [Д30; т. 22: 146].
Писатель возвратился к этому эпизоду и в «Романе о детях» в связи с Федором Федоровичем:
«Нашли подкинутого младенца»;
«…после подкинутого ребенка»;
«…он поражается одним: подкинутым младенцем» [Д30; т. 16: 5, 11, 15].
Можно с уверенностью предположить, что одним из прототипов Федора Федоровича в набросках «Романа о детях» был П. М. Цейдлер.
Проникновенные разговоры с детьми как главная «метода» Гугеля и его ученика Цейдлера когда-то отозвались в истории князя Мышкина в его отношениях с детьми: это не только швейцарская предыстория героя, но и сюжет, настойчиво фигурирующий в черновиках как «детский клуб» [Д30; т. 9: 239, также: 200, 201, 206, 207, 209, 218, 227, 236, 237, 240–242, 247, 252, 279, 284], не вполне развернутый в окончательном тексте «Идиота», однако не оставлявший писателя до конца жизни. В первоначальных планах будущего «Подростка» фигурируют «детская империя» и «шайка детей» [Д30; т. 16: 6, 9]. Гугель, Цейдлер и их сподвижник Резенер относились к редчайшему, по Достоевскому7, и высоко ценимому им типу:
«…бывают некоторые врожденные педагоги, до страсти любящие жить и обходиться с детьми, которых отнюдь не надо смешивать с учеными и искусственными педагогами» [Д30; т. 19: 52].
Немного о биографии Резенера. После гатчинского института в 1849 г. он закончил юридический факультет Петербургского университета. Еще в студенческие годы Федор Федорович познакомился с участником кружка петрашевцев педагогом Феликсом Толлем, дружбу с которым возобновил после возвращения последнего из каторги и ссылки. Не исключено, что Резенер мог посещать какие-то собрания петрашевцев, но у нас нет об этом никаких сведений. С уверенностью можно лишь утверждать, что социалистические убеждения сформировались у Федора Федоровича, параллельно Достоевскому, именно в сороковые годы, как и его атеизм, в коем он особенно близок Толлю8. После университета Резенер служит в Военном Министерстве, а в 1858 г. выходит в отставку. Знаменательна причина его отставки, как ее описывает знакомый Резенера военный педагог В. Г. фон Бооль:
«Самъ Резенеръ черезъ 15-ть лѣтъ разсказывалъ мнѣ причину, по которой онъ долженъ былъ оставить службу и, несмотря на свою всегдашнюю крайнюю сдержанность, говорилъ мнѣ это съ необыкновеннымъ волненiемъ; представляю себѣ, что онъ тогда пережилъ.
Резенерь хорошо зналъ, что арестъ Петрашевскаго и другихъ лицъ, между которыми были прiятели его (особенно Толь), былъ произведенъ по доносу Антонелли (чиновникъ тайной полиціи), вошедшаго въ знакомство съ кружкомъ и сочинившаго доносъ, съ цѣлью отличиться по службѣ.
Собирался кружокъ только для бесѣдъ, во время которыхъ молодежь часто несдержанно выражалась о правительствѣ, и высказывались желанія, чтобы были освобождены крестьяне; но никакого заговора, никакой организаціи, никакой опредѣленной цѣли или плана кружокъ не имѣлъ. Антонелли за-писывалъ всякую фразу, кѣмъ бы то ни было сказанную, и простыя пріятельскiя бесѣды представилъ въ видѣ заговора, составивъ сочиненный имъ доносъ, вслѣдствiе котораго члены кружка поплатились семилѣтней каторгой. Это было въ 1849 г.; Антонелли, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжалъ ходить въ общество и между прочимъ бывалъ иногда за табльдотомъ (Мильбрета) у Полицейскаго моста, гдѣ собиралось ежедневно очень большое общество.
Однажды Резенеръ, придя въ отель, увидѣлъ тамъ Антонелли и обратился къ нѣкоторымъ лицамъ, знавшимъ Антонелли, съ предложеніемъ удалить его. Но, какъ разсказывалъ мнѣ Резенеръ, всѣ эти лица сдѣлали видъ, что не слышали его предложенія и, наклонившись надъ тарелкой, стали ѣсть супъ. А между тѣмъ Антонелли подходитъ то къ одной, то къ другой группѣ и всту-паетъ въ разговоръ, который шелъ по поводу арестованія Петрашевскаго, при чемъ молодежь не стѣсняясь говоритъ очень свободно. Тогда, говорилъ мнѣ Резенеръ, я рѣшился дѣйствовать одинъ. Подойдя къ Антонелли, я сказалъ ему громко: "вы знаете меня и знаете, что мнѣ извѣстны ваши дѣла; поэтому, если вы не хотите огласки, — прошу васъ выйти и больше сюда не являться". Антонели на это сказалъ ему: — прошу васъ выйти со мною на два слова.
Резенеръ, опасаясь, что Антонелли предъявитъ ему полисъ 3-го отдѣленія и потребуетъ его съ собою, отказался выйти съ нимъ. Тогда Антонелли далъ ему пощечину.
"Первымъ моимъ движеніемъ, говорилъ Резенеръ, было ударить подъ грудь и нанести ему смертельный ударъ (Резенеръ отличался большой силой); но я тотчасъ остановился, разсудивъ, что это будетъ драка. Я схватилъ его крѣпко за обѣ руки и, обратясь къ присутствовавшимъ, сказалъ: "господа, пощечина отъ шпiона не есть безчестiе" и объяснилъ, кто находится передъ ними". Все общество бросилось на Антонелли и, избивъ его, вытолкали вонъ, а Резенеру всѣ выразили свое уваженіе»9.
Рассказ Резенера «черезъ 15-ть лѣтъ» после события, да еще переданный третьим лицом, содержит ряд фактических неточностей (так, Антонелли был агентом тайной полиции и т. д.), но сам конфликт с Антонелли вряд ли выдумка «идеально честного человека», как Резенера характеризует не только Бооль10. Не исключено, что Достоевский знал об инциденте с Антонелли, происшедшем ориентировочно в 1858 г. Мотив безответной пощечины есть в «Идиоте», «Бесах» (ср. «большую силу» Резенера и его волевой отказ от «смертельного удара» с близким эпизодом между Ставрогиным и Шатовым), а также в «Подростке», как в окончательном тексте, так и в самых ранних планах («История пощечины; перенесение пощечины» [Д30; т. 16: 17]).
После отставки Резенер живет на заработок от переводов в журналах (он владел французским, немецким и английским), однако уже через год мы видим его на открывшемся в эпоху реформ общественно-педагогическом поприще. С 1859 по 1866 гг. он состоит в числе учителей Василеостровского бесплатного училища, организованного группой либерально настроенных студентов и выпускников университета, озабоченных просвещением народа, прежде всего через начальное образование детей из бедных семей. Заведение стало образцовым благодаря созидательной энергии и подвижничеству Резенера. Отношения с учениками строились на новых началах уважения к личности ребенка, полного взаимного доверия и завоеванного учителем нравственного авторитета.
Один из учеников, на всю жизнь «зараженный» Резенером11, известный педагог В. П. Острогорский сообщает, что его наставник буквально жил школой, интересами воспитанников, и дети его «любили до обожания».
«До уроковъ устраивались — зимою въ классахъ, весной-же и осенью — на дворѣ — разныя игры. Ѳедоръ Ѳедоровичъ, приходившій всегда раньше всѣхъ и уходившій позже, а впослѣдствіи, когда школа была переведена въ 16 линію, поселившійся при ней, какъ строгая няня, слѣдилъ за играми и не спускалъ глазъ съ тѣхъ, отъ которыхъ можно было ожидать какого-либо проступка по отношенію къ товарищамъ. Разъ такой проступокъ совершался, виновный привлекался къ отвѣтственности: ему приходилось, оставивъ компанію сверстниковъ, посидѣть или постоять рядомъ съ Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ. Никогда неповышаемымъ, ровнымъ, тихимъ голосомъ читалось надлежащее внушеніе, въ которомъ слышались слова: "дѣтюша", "фаля" (вмѣсто Ивановъ), "Фомочка" (вм<ѣсто> Фоминъ), и т. п. Другихъ наказаній у насъ не практиковалось, да и не требовалось, — лишь на исключительныхъ, завзятыхъ школяровъ внушенія Ѳ. Ѳ. Резенера могли не подѣйствовать; за то многихъ они доводили до слезъ»12.
Как пример его «могущественного вліянія на дѣтей»13 мемуарист приводит «чудесный» эпизод пресечения воровства среди учеников исключительно силою морального авторитета Федора Федоровича14.
Тогда же Резенер сошелся с будущим вождем народничества Петром Лавровичем Лавровым15, их сблизила совместная работа над русским изданием «Системы логики» Милля (1864), затем журнал «Заграничный Вестник» (1864–1867)16. Познакомился он и с Чернышевским. По утверждению информированного современника, Чернышевский в романе «Что делать?» «лучшие черты Рахметова списал с Ф. Ф. Резенера»17.
В этом смысле ценные штрихи к портрету Федора Федоровича добавляют воспоминания его коллеги по Василеостровской школе:
«…Резенеръ ни вина, ни пива въ ротъ не бралъ, ни въ гости, ни на какiя-нибудь увеселенія не ходилъ никогда, и вообще не позволялъ себѣ ни малѣйшихь развлеченій или удовольствій, которыми пользуются обыкновенные смертные. Но онъ былъ далеко не мрачнымъ, сухимъ человѣкомъ, ушедшимъ только въ себя и въ свои книги. Напротивъ, это была въ высшей степени нервная, воспріимчивая и впечатлительная натура, обладавшая чрезвычайно живымъ, огненнымъ темпераментомъ и, въ то-же время — колоссальною силою воли, постоянно и неослабно сдерживавшею всѣ клокотавшіе въ немъ бурные порывы, лишь изрѣдка прорывавшіеся наружу въ горячемъ спорѣ, когда его задѣвали за живое, или когда его что-нибудь особенно возмущало. Только въ подобныя минуты видно было, чтò это за человѣкъ; въ обыкновенное-же время онъ быль всегда чрезвычайно ровенъ, мягокъ, утонченно деликатенъ и порой, особенно въ обществѣ, даже робокъ и за-стенчивъ. <…> Спалъ этоть неутомимый труженикъ чрезвычайно мало, на ѣду и питье почти вовсе не тратилъ времени, дѣлая то и другое на ходу и не прерывая работы. Весь день сплошь онъ постоянно былъ занятъ и никто никогда не видѣль его безь дѣла, просто отдыхающимь. По улицамъ онъ ходиль очень быстро, какъ-бы боясь потерять каждую минуту, каждую секунду даромъ, и постоянно погруженный въ размышленія о томъ или другомъ педагогическомъ вопросѣ, или о горячо любимыхъ имъ "дѣтюшкахъ"»18.
В набросках к образу Федора Федоровича Достоевский акцентировал внутренние противоречия своего героя:
« ОНА (и многие) считают Федора Ф<едорови>ча ребенком, ничего не понимающим в жизни и в человеке, и вдруг Фед<ор> Федорович, когда пришло время (но совершенно нечаянно и не думая подготовлять сцену), рассказал ей всю психологию ее души, до глубины ее ужаснувшей, но спокойно и почти холодно. "Но если вы всё это проникли и знаете в людях, то как вы можете оставаться так холодны и спокойны", — восклицает она ему.
"Но ведь я не холоден и не спокоен", — отвечает он ей, но так холодно и спокойно, что как будто не понял замечания.
Разгадка в том, что он idea fixa, а таковые все спокойны, хотя бы на казнь идти» [Д30; т. 16: 11–12].
Федор Федорович, развивает тему Достоевский, «социалист и фанатик, но как бы холодный и расчетливый» — при этом он « воспламеняет детей учениями коммунизма» (выделено нами. — В. В .) [Д30; т. 16: 14, 15].
Что касается идейного настроя реального Федора Федоровича и собравшегося вокруг него на 16-й линии Васильевского острова педагогического коллектива, его иллюстрирует одно сверхординарное событие, там приключившееся. На одном из педсоветов учитель истории решительно заявил: «Пока не будет развеваться на Зимнем дворце красное знамя — у нас нельзя преподавать историю» [Булгакова: 219]. Учитель был удален из коллектива, но сама возможность такого выступления свидетельствует о влиянии радикальных идей на часть педагогического сообщества. В этой связи стоит заметить, что и своему Федору Федоровичу Достоевский планировал высказывания в оправдание «крови и пожаров» грядущей революции [Д30; т. 16: 15].
В 1866 г., в эпоху наступившей реакции после выстрела Каракозова, Василеостровская школа была закрыта, как и другие подобные заведения, так называемого прогрессивного направления. Один характерный факт в связи с этим. В феврале 1865 г. по предложению педагогического комитета 1-й Василеостровской гимназии Резенер представил изложение своей системы, и в рецензии на нее учитель истории и географии Д. Ф. Щеглов обвинил коллегу, что он отвергает религиозное воспитание и тем самым подготавливает нигилистов19. Практическая школьная деятельность Резенера на время прервалась и уступила место теоретическим штудиям в журнале О. И. Паульсона «Учитель» (основан в 1861 г.), в 1867–1868 гг. он временно замещает редактора.
В 1869 г. комитет Общества для устройства в России земледельческих колоний и ремесленных приютов рекомендовал Резенера на должность директора создающегося Приюта, командировал его за границу с целью изучения накопленного в Европе опыта исправления несовершеннолетних преступников. Через год Pезенер, посетив прусские, саксонские, бельгийские, голландские и виртембергские исправительные заведения, был назначен директором ремесленного приюта:
«Здѣсь дѣятельность покойнаго была, по-истинѣ, изумительная, и доходила до полнаго самоотверженія. Въ уставѣ заведенія былъ, между прочимъ, пунктъ, что однимъ изъ воспитательныхъ средствъ должно быть личное влияніе директора . И Резенеръ, считая этотъ пунктъ наиболѣе священнымъ, жилъ буквально среди своихъ питомцевъ, не имѣя особой комнаты; одѣвался, какъ они, въ блузу, ѣлъ съ ними за однимъ столомъ, и ту-же грубую пищу, не пилъ чаю, пересталъ курить. Онъ работалъ съ ними буквально цѣлый день, отъ ранняго утра до ночи; а ночью, когда всѣ спали, подготавливался къ уро-камъ слѣдующаго дня; былъ и воспитателемъ, и учителемъ, и работникомъ, и даже товарищемъ игръ и дальнихъ прогулокъ питомцевъ, которыя всегда сопровождалъ живыми разсказами изъ области естествознанія. Мало того, онъ и жалованье свое почти все тратилъ на нихъ-же, — этихъ порочныхъ отверженныхъ ребятишекъ, — покупая имъ книжки, лакомства и игрушки, чтобы хоть чѣмъ-нибудь потѣшить ихъ, вознаградить для нихъ отсутствіе близкихъ къ нимъ лицъ. И дѣти любили его, какъ отца, были откровенны съ нимъ, и самый легкій его выговоръ считали величайшимъ для себя наказаніемъ» 20 .
Все это весьма напоминает педагогические принципы и приемы Гугеля и Цейдлера. Достоевский, судя по всему, был заинтересован тем, что происходило в колонии Резенера за пороховыми заводами. В первом выпуске «Дневника Писателя» 1876 г., рассказывая о посещении этой колонии, он признается: «Я давно порывался туда» [Д30; т. 22: 17].
В набросках «Романа о детях» Достоевский большое внимание уделяет «передовым» взглядам героя-педагога. Интересны диалоги двух братьев, в которых ОН и Федор Федорович рассуждают о Христе:
«Про Христа Фед<ор> Фед<орови>ч отзывается, что в нем было много рационального, демократ, твердость убеждения и что некоторые истины верны. Но не все.
Старший брат (ОН), при жене и при младшем брате, доказывает Фед<ору> Фед<орови>чу, что Христос основывал общество на свободе и что нет другой свободы, как у него. А что он, коммунист Фед<ор> Фед<орови>ч, основывает на рабстве и идиотстве. Фед<ор> Фед<орови>ч сбит в аргументах, но не сбит в чувстве. "Что же, можно и Христа систему принять, — говорит он. — Только исправить иное". — "Да ведь тогда ничего от Христа не останется", — говорит брат. "Признаюсь, я не буду спорить, — говорит Фед<ор> Фед<орови>ч, — ибо "это только слова" и всё это нейдет к настоящему делу". И уходит от спора спокойный» [Д30; т. 16: 14–15].
Непоколебимой остается упорная вера героя «в смысл коммунизма» [Д30; т. 16: 15]. В теоретическом споре Федор Федорович терпит поражение, но «не сбит в чувстве», которое его ведет на «деле», в жизни вопреки самым неотразимым «аргументам». Вместе с тем его ожидает нравственный переворот, спровоцированный именно жизнью (здесь-то пришлось к месту воспоминание о «подкидышах» Цейдлера — произошло характерное для прототипов сращивание):
«Но вдруг он поражается одним: подкинутым младенцем. И непосредственно становится любителем детей и христианином. Ему говорят, что в новом обществе дети будут без отцов, ибо семейства не будет (а семейство, так и собственность). Он говорит, что, верно, не так будет, если это натурально. "Да и можно ли не любить детей? Ведь вот отец и мать их побросали, а ведь я же их люблю; такие, как я, всегда будут. О! будут в тысячу раз лучше нас, ибо всё будет любовь и согласие! Все будут отцы и матери, тогда не надо натуральных отцов, а то это почти монополия". <…> "Недалеко еси от царствия небесного, — говорит ему один. — Ты смешал христианство с коммунизмом. Но эту несовместимую смесь делают и теперь многие…"» [Д30; т. 16: 15].
Нельзя не заметить, что в первых набросках нового романа само явление героя типа Мышкина и при этом убежденного социалиста решительно отличает новый замысел от замысла «Бесов», в преддверии которого Достоевский в письме к Н. Н. Страхову 24 марта (5 апреля) 1870 г. однозначно выразил свою позицию:
«Нигилисты и западники требуют окончательной плети» [Д30; т. 29, кн. 1: 113]. Новый роман был напечатан в органе «нигилистов» — в «Отечественных Записках», что дало повод для спекуляций. В советском достоевсковедении бытовало, в различных вариациях, предположение о некотором, хотя бы частичном, возвращении писателя к социалистическим идеалам юности ([Комарович], [Долинин: 80, 86–87, 214], [Розенблюм: 126–127]), о сохранившейся приверженности к утопическому «христианскому социализму» [Пруцков: 79]. Предположение понятное в контексте прошедшей эпохи. Как представляется, глядя уже из другого времени, Достоевский уходил от острой обличительности «Бесов», отнюдь не изменяя «бесконечности христианства над социализмом» [Д30; т. 20: 193], но ища пути к пониманию поверившей в социализм молодежи как бы изнутри, в добросовестных исканиях правды.
Следует иметь в виду, что роман «Подросток», его «поэма», по выражению самого писателя [Д30; т. 16: 5, 175], начала складываться в период редакторства Достоевского в еженедельнике «Гражданин» (1873–1874). Она была созвучна той задаче, которую редактор сформулировал в письме М. П. Погодину 26 февраля 1873 г.:
«Вот цель и мысль моя: социализм сознательно, и в самом нелепо-бессознательном виде, и мундирно, в виде подлости, — проел почти всё поколение. Факты явные и грозные» [Д30; т. 29, кн. 1: 262].
О социализме «в виде подлости» Достоевский написал в «Бесах». Теперь следовало понять социализм «сознательный» в его весомых основаниях, способных замотивировать «всё поколение», даже лучших его представителей. Такая установка определила поведение «Гражданина» в отношении радикально настроенной молодежи. Тон , что делает музыку, задавали уже первые главы печатавшегося в еженедельнике «Дневника Писателя»: «Старые люди», «Среда» и «Нечто личное». О кумирах молодого поколения Белинском, Герцене и Чернышевском здесь говорилось с сожалением из-за их увлечения философией «среды», но и не без признания достоинства личности каждого из них. Таков же был тон конструктивной, как бы теперь сказали, полемики с идейными противниками из «Отечественных Записок» — Некрасовым («Влас») и Н. К. Михайловским («Две заметки редактора»). Этот тон хотя и с вариациями, но поддерживали ведущие авторы «Гражданина»: В. П. Мещерский, А. У. Порецкий, И. Ю. Некрасов, Н. Н. Страхов.
Главнейший вопрос как «Гражданина», так и последовавшего за ним романа на всех стадиях формирования текста — вопрос о судьбе молодежи «смутного времени», о том, как «созидаются поколения» [Д30; т. 13: 455]. Поэтому ведущей темой «Гражданина» стала проблема образования (см.: [Викторович, 2019: 160–188], [«Потрясение или просвещение»]), ключ к решению которой авторы издания видели в отчаянном дефиците достойных учительских кадров («…учителей сейчас не наделаете» [Д30; т. 21: 93]). Интересен перечень тех сил, что способны, по Достоевскому, помочь народу сопротивляться соблазнам денежного мешка и кабака:
«Что, если б, с своей стороны, поддержали их и все наши передовые умы, наши литераторы, наши социалисты , наше духовенство <…>. Что, если бы поддержал их и нарождающийся наш школьный учитель!» (выделено нами. — В. В .) [Д30; т. 21: 95].
Оказывается, по Достоевскому, социалисты и духовенство могут объединиться в благородном начинании. Школьный учитель способен, таким образом, принести неисчислимую пользу своему народу, из какого бы лагеря он ни вышел. Таким был социалист Федор Федорович Резенер21.
Последняя глава «Дневника Писателя» «Одна из современных фальшей» (Гражданин. 1873. № 50. 10 декабря) резко обозначила позицию редактора «Гражданина». Поводом послужило обсуждение в прессе сообщений об аресте участников кружка Долгушина (отзвуки этого дела слышны в «Подростке» в описании кружка Дергачева). Достоевский вступил в полемику с прозвучавшими тогда успокоительными заявлениями, будто на такое способны только «недоразвитки», «буяны» и «ленивцы». Писатель предположил, что там собиралась и «молодежь прилежная, горячая, именно учащаяся и даже с хорошим сердцем, а только лишь дурно направленная» [Д30; т. 21: 128]. Далее он вспоминает собственное участие в кружке Петрашев-ского и тем самым включает самого себя в число тех, кто способен был увлечься «дурным», с его теперешней точки зрения, «направлением». Причины такого увлечения представляются весьма внушительными:
«Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. <…> Действительно правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации» [Д30; т. 21: 130].
Пример соединения социализма с христианством и даже идеи примыкания самого Христа к «движению» [Д30; т. 21: 11] Достоевский показал в личном воспоминании о Белинском и Герцене в начальной главе «Дневника Писателя» «Старые люди» (Гражданин. 1873. № 1. 1 января). В обозрении «Иностранные события» (Гражданин. 1873. № 41. 8 октября) он же писал:
«А что стоит уверить темный и нищий народ, что коммунизм есть то же самое христианство и что Христос только об этом и говорил. Ведь есть же и теперь даже умные и остроумные социалисты, которые уверены, что то и другое одно и то же и серьезно принимают за Христа антихриста…» [Д30; т. 21: 203].
Вернувшись к этой теме в декабре, в последней главе «Дневника», писатель таким образом акцентировал значимость подобного смешения для состояния общественного сознания. Его-то и продемонстрировал затем образ Федора Федоровича в первых планах будущего романа.
Исследователи обсуждали вероятность влияния диалога Достоевского с Н. К. Михайловским в статье «Две заметки редактора» (Гражданин. 1873. № 27. 2 июля) на «антибуржуазный» замысел «Подростка» (см.: [Долинин: 9–14], [Семенов: 5–15]). Между тем писателя более всего поразило утверждение критика, «что социализм не атеистичен» [Д30; т. 21: 157]. Для Достоевского и тогда, и потом аксиомой был антагонизм социализма и христианства. Поразило его, очевидно, нечто знакомое в признании «властителя дум» нового поколения: ведь русские социалисты сороковых годов тоже искренне полагали, что они поправляют христианство, не отрицая при этом значения религии и трактуя ее по-фейербаховски.
Достоевский вряд ли был лично знаком с Ф. Ф. Резенером (во всяком случае, мы не располагаем такими сведениями): писатель посетил и подробно описал в январском «Дневнике Писателя» 1876 г. созданную педагогом колонию через год после того, как тот вынужден был покинуть свое детище по состоянию здоровья. Однако бесспорно, что Достоевский был много наслышан о педагоге-подвижнике с социалистическими убеждениями. Перед ним раскрывался еще один, после Гугеля и Цейдлера, жизненный подвиг педагога, равноценный тому, что он называл «практическим христианством» [Д30; т. 9: 268]. Этот мотив подспудно и настойчиво развивался еще в черновиках к роману «Идиот»:
«Глубины и заносчивости в идеях нет, хотя умен, образован и мыслил. Но чувство преобладает в натуре. Живет чувством. Живет сильно и страстно. Одним словом, натура христианская» [Д30; т. 9: 170].
«Христианин и в то же время не верит. Двойственность глубокой натуры » [Д30; т. 9: 185].
«Детей он любит непосредственно, жив-м…» [Д30; т. 9: 218]; (очевидно, пропуск букв означает «животом» или «живьем»).
Продолжение темы находим в замысле «<Роман о князе и ростовщике>»:
«Учитель, подкидывание детей, простой, живой и великий подвиг» [Д30; т. 9: 124].
Таким «практическим» христианином предстает в набросках «Романа о детях» и Федор Федорович. Он социалист и при этом, как его предшественники Гугель и Цейдлер, «проникнут сильнейшим живым и страдальческим чувством любви к детям» [Д30; т. 16: 6]. С Христом он во многом готов согласиться, хотя не приемлет мистических корней его учения. Жизнь все ставит на свои места: вспыхнувшая «страдальческая» любовь к подкинутому младенцу ведет к окончательному выстраиванию духовной личности героя, он «непосредственно становится любителем детей и христианином» [Д30; т. 16: 15]. Достоевский подчеркивает слово «непосредственно», оно здесь ключевое: на героя воздействует его, как бы теперь сказали, культурное бессознательное. Он христианин в значении реального жизнестроительства личности22, о чем говорят дела его животворящей любви к детям.
Федор Федорович ушел из романа, освободив место другому «непосредственному» христианину — страннику Макару с его верой в мистическую природу души. Однако мотив сближения социализма с христианством из романа не ушел. Он прорывается в общем разговоре о том, что такое «безбожник», когда Макар Иванович уверяет:
«…кто веселый, тот уж не безбожник» [Д30; т. 13: 301].
Он же комментирует евангельский призыв «Поди и раздай твое богатство и стань всем слуга» в духе приведенного выше рассуждения Федора Федоровича о всеобщем отцовстве: «Ныне без сытости собираем и с безумием расточаем, а тогда не будет ни сирот, ни нищих, ибо все мои, все родные, всех приобрел…», — на что следует реплика Подростка:
«…да ведь вы коммунизм, решительный коммунизм, коли так, проповедуете!» [Д30; т. 13: 311].
Когда Макару Ивановичу объясняют, что такое коммунизм, он откликается: «Так, так!» [Д30; т. 13: 312]. Призрак коммунизма, понятого Федором Федоровичем как объединяющая всех забота о детях, встает и в видении Версиловым «последнего дня человечества», когда в мире победившего атеизма любовь к Богу сменилась утопией взаимной участливости:
«Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем всё свое и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле — ему как отец и мать » (выделено нами. — В. В .). [Д30; т. 13: 379].
«Последнее воскресенье» человечества, по Версилову, пришло бы, когда к осиротевшим людям все-таки вернулся Христос, поскольку образ Божий в сохранивших потребность любить «другого» и не умирал23. Этот другой, по Достоевскому, прежде всего ребенок, «дитё». «Практическое христианство» самое существование цивилизации ставит в зависимость от сохраняющейся способности любить/понимать малых сих. Такое понимание демонстрирует в финале романа «Подросток» «воспитатель» Николай
Семенович, а в следующем романе — Алексей Карамазов. Как Ян Коменский мечтал о всеобщей панпедии, так Федор Федорович «Романа о детях» мечтает о всеобщем отцовстве. Реальных воплотителей этой мечты Достоевский высматривал среди своих современников: П. М. Цейдлер и Ф. Ф. Резенер всей своей жизнью доказывали реальную осуществимость христианской по сути педагогии. Цепь на них не прервалась, можно указать на вдохновленный Достоевским педагогический подвиг С. А. Рачинского (см. также: [Зеньковский]).