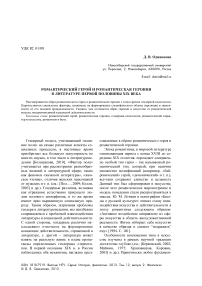Романтический герой и романтическая героиня в литературе первой половины XIX века
Автор: Одинокова Дарья Викторовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается образ романтического героя и романтической героини с точки зрения гендерной психологии. Перечисляются социальные факторы, влияющие на формирование специфического облика персонажа в зависимости от его половой принадлежности. Указано, чем отличается образ героини в искусстве от романтической модели, воспроизводимой в реальной действительности.
Романтический герой, романтическая героиня, гендерная психология, романтический характерв искусстве, романтизм в быту
Короткий адрес: https://sciup.org/147218732
IDR: 147218732 | УДК: 82.
Текст научной статьи Романтический герой и романтическая героиня в литературе первой половины XIX века
Гендерный подход, учитывающий «влияние пола» на самые различные аспекты социальных процессов, в настоящее время приобретает все большую популярность во многих науках, в том числе в литературоведении [Большакова, 2010]. «Фактор пола» учитывается при рассмотрении разнообразных явлений в литературной сфере, таких как феномен «женской литературы», «женское чтение», отличия женских персонажей от мужских и т. п. (см.: [Пол…, 2009; Келли, 2003] и др.). Гендерные различия, возникая как отражение естественно присущего людям полового диморфизма, в то же время имеют ярко выраженную социальную природу. Таким образом, затрагивая проблемы гендера в литературоведении, мы неизбежно соприкасаемся с проблемой взаимодействия литературы и социальной действительности. С одной стороны, гендерные различия накладывают отпечаток на формирование концепции действительности, отраженной в литературе, с другой – литература может влиять на реальную жизнь в плане пропаганды определенных гендерных стереотипов. В первой половине XIX в. в России наблюдались оба механизма, наглядно пред- ставленные в образе романтического героя и романтической героини.
Эпоха романтизма, в мировой литературе охватывающая период с конца XVIII до середины XIX столетия, порождает совершенно особый тип героя – так называемый романтический тип, который, при наличии множества модификаций (например, «байронический» герой, «демонический» и т. п.), все-таки сохраняет единство и цельность Данный тип был сформирован в искусстве, после чего романтическое мировоззрение и модель поведения стали распространяться в массах. Ю. М. Лотман в монографии «Беседы о русской культуре» описал схему взаимодействия искусства и действительности в эпоху романтизма следующим образом: «Активное воздействие направлено из сферы искусства в область внехудожественной реальности. Жизнь избирает себе искусство в качестве образца и спешит “подражать” ему» [1994. С. 181].
Особенности воплощения типа в искусстве изучены в рамках научной традиции достаточно глубоко (см.: [Берковский, 2002; Маймин, 1975; Храповицкая, Коровин, 2003] и др.). Практически любое фундамен-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 2: Филология © Д. В. Одинокова, 2013
тальное исследование, посвященное русскому или зарубежному романтизму, затрагивает проблему романтического героя. Однако определенный интерес до сих пор представляет рассмотрение романтического характера в междисциплинарном аспекте, в частности, с точки зрения гендерной психологии. «Романтизация» поведения имела отчетливую социальную и гендерную специфику. Во-первых, романтическая модель была востребована исключительно в среде образованных и обеспеченных людей. Малообразованные и малообеспеченные низшие и средние слои населения либо вообще не соприкасались с романтическим типом, либо данный тип оставался для них принадлежностью искусства.
Во-вторых, романтическая модель поведения, заложенная в произведениях искусства, подразумевала различные нормы для персонажей мужского и женского пола. При этом следует осознавать, что изначально половой диморфизм в романтических произведениях предопределялся социальной моделью, так как в окружающей действительности женщины и мужчины занимали неравноправное положение. Впоследствии разница между романтическим героем и героиней пропагандируется в искусстве и оказывает влияние на поведение подражателей. Следует обратить внимание как на влияние социальных факторов при формировании мужского и женского романтического типа в искусстве, так и на последующее влияние литературного образца на повседневную жизнь. При этом необходимо учитывать, что влияние искусства на повседневность осложняется существованием в обществе определенных мировоззренческих и поведенческих установок, с которыми искусство неизбежно вступает во взаимодействие [Выготский, 2010].
Разница между мужским и женским романтическим характером продиктована общими социальными установками на различение мужчин и женщин. Эпоха романтизма – это время, когда, с одной стороны, в Западной Европе и в России формируется представление о необходимости расширения прав женщин, с другой стороны, женщины еще далеко не приравнены к мужчинам. Представление о данном отрезке времени можно составить по достаточно многочисленным работам, посвященным изучению положения женщин в обществе в различные эпохи (см.: [Абрамс, 2011; Большакова, 2010; Маррезе, 2009; Пушкарева, 2002] и др.).
Оценить положение женщин в обществе можно по нескольким параметрам: имеют ли женщины имущественные права и в каком объеме, предоставляется ли женщинам право участвовать в выборах, могут ли женщины занимать общественные должности и овладевать теми же профессиями, что и мужчины, есть ли у них доступ ко всем уровням образования, могут ли женщины претендовать на детей в случае расставания с мужем. В начале XIX в., когда в России и в Европе распространяется романтическое мировоззрение, по большинству из этих параметров женщины на фоне мужчин явно ограничены в своих возможностях, хотя их положение выглядит существенно лучше по сравнению с традиционным средневековым обществом.
В имущественном плане женщина чаще всего зависела от мужчины (дочь от отца, жена от мужа), хотя и могла участвовать в управлении этим имуществом. Женщине чаще принадлежало движимое имущество, чем недвижимое, хотя в XIX столетии приобретение недвижимости на женское имя уже перестает быть чем-то из ряда вон выходящим. Избирательное право для женщин впервые в мире было введено только в начале 1890-х гг., т. е. с этой точки зрения (возможность влиять на политические события) женщины еще долго оставались «неполноценными» членами общества. В профессиональном плане у женщин в начале века было относительно немного возможностей, т. е. существовали сугубо «мужские» сферы, типа инженерного дела, юриспруденции или медицины (за вычетом акушерства), куда женщинам доступа вообще не было.
Женщины в большей степени были связаны с ведением домашнего хозяйства, выполнением домашних обязанностей и воспитанием детей. Их профессиональная и общественная деятельность, как правило, так или иначе вырастала из этих основных занятий – содержание пансиона, работа учителем или гувернанткой, попечительство над учебными заведениями и сиротскими приютами и т. п. Ситуация с женским образованием в начале XIX в. стала заметно улучшаться, но преимущественно в сфере начального и среднего, а не высшего обра- зования. Доступ в университеты для женщин был закрыт вплоть до середины XIX в. Дети, рожденные в браке, признавались членами отцовской, а не материнской семьи, носили фамилию отца, и у отца был приоритет при определении судьбы детей в спорных случаях. Резюмируя все вышесказанное, следует признать, что положение женщины в социуме в эпоху романтизма делало ее зависимой, ведомой, что и отразилось в романтической картине мира.
В искусстве романтические героини имеют ту особенность, что герои мужского пола однозначно оттесняют их с ведущих позиций [Русская романтическая повесть, 1992]. Романтическая героиня обычно является страдающим лицом, т. е. не она выступает инициатором действия, а обстоятельства вовлекают ее в круговорот событий. Даже если чисто внешне она выглядит как активное действующее лицо, ее действия все равно вторичны по отношению к действиям мужчины. Например, если героиня освобождает героя из плена, как в поэме Дж. Г. Байрона «Корсар» [Байрон, 1987. Т. 1. С. 65–68], то подразумевается, что сначала герой должен затеять некое предприятие, по ходу сюжета угодить в плен, после чего у героини появится возможность осуществить свои действия по спасению. Любопытно, что исключением в этом плане становятся романтические образы, созданные авторами-женщинами 1. Отождествляя себя с героиней, автор-женщина именно ей приписывала ведущую роль. Это тоже пример отчетливого влияния гендерного фактора – авторы-мужчины больше расположены следовать общественной традиции, тогда как женщины склонны традицию разрушать, потому что их не устраивало «зависимое» положение.
«Вторичность» роли женщины приводит к тому, что романтические черты в ее характере могут быть сглажены или представлены не в полном объеме. Мы отметим те особенности, которые по-разному проявляются в зависимости от половой принадлежности персонажа. Эмоциональность, повышенная чувствительность в равной степени присущи всем романтическим персонажам, независимо от пола и возраста, но у женщин эти чувства в каком-то смысле проявляются бо- лее ярко, в силу неспособности себя сдержать. Мужчина может сочетать пылкость чувств с внешней невозмутимостью, женщине такое не под силу. Погоня за новыми яркими ощущениями, типичная для мужчин, женщинам не свойственна. Женщина не проявляет должной активности в том числе и в поиске способов удовлетворить свои потребности, ибо она малоинициативна.
Избирательность восприятия, образность и эмоциональная окрашенность воспоминаний, присвоение непрожитого опыта типичны в эпоху романтизма как для мужчин, так и для женщин. При этом присвоение непрожитого опыта у женщин выражено сильнее, потому что их меньшая активность по сравнению с мужчинами ограничивает накопление реальных впечатлений. Развитое воображение, интуитивное мышление, склонность к иррационализму также определяют сущность романтического типа вне гендерного контекста, но у женщин эти качества усугубляются за счет природной, «физиологической» склонности – женщины в целом больше предрасположены к вере в сверхъестественное и к нелогичным поступкам, к интуитивному постижению мира.
Темперамент героини, как и темперамент героя, – «взрывной», холерический, однако по силе проявления своих симпатий и антипатий женщина уступает мужчине. Творческая одаренность у женщин обычно выражается в более ограниченных формах, чем у мужчин. Список творческих профессий, подходящих для женщин, несколько короче такого же списка для мужчин, т. е. женщина может заниматься музыкой, пением и танцами, выступать на сцене, гораздо реже – обладать талантом живописца; все остальные способы творческой самореализации для женщины – это рукоделие, т. е. прикладное искусство.
Разумеется, наиболее заметны различия между героем и героиней в тех аспектах, которые связаны с социальными механизмами. Так, внешность, поведение, манера одеваться определяются не только спецификой образа, но и готовностью или неготовностью общества воспринять и одобрить конкретный тип внешности. В связи с существованием идеализации женских образов в целом, внешне романтическая героиня должна была обладать превосходными качествами – выразительной красотой и врожденной грацией. Для нее недопустимо было заметное уродство, придающее внешности своеобразие, как для героя мужского пола (шрамы, горб, хромота и пр.). Привлекательность героини ни в коем случае не должна была страдать за счет оригинальности, максимум, что было позволено – некий недостаток, не разрушающий общего впечатления, например слепота (героиня романа В. Гюго «Человек, который смеется») или бледность. Необычность одежды также ограничивалась, во-первых, требованиями эстетической привлекательности (романтическая героиня, как правило, не появлялась «на сцене» в отвратительных вонючих лохмотьях); во-вторых, одежда не должна была порождать комический эффект, т. е. быть нелепой.
Социальные связи романтического героя предопределялись его стремлением к независимости, бунтарством, эгоцентризмом, иначе говоря, романтический тип противопоставлял себя обществу и отрицал большинство семейных и дружеских связей. Он очень часто оказывался абсолютно одинок. Однако «зависимость» женщины, ее «слабость» даже в рамках романтической традиции диктуют несколько иной расклад – полное одиночество героини невозможно, она не справится с тяготами самостоятельного существования, поэтому романтическая героиня представлялась частью какого-то замкнутого сообщества (например, небольшой странствующей труппы, как Дея у Гюго) или связана любовными отношениями (Медора в поэме Байрона «Корсар»).
Симптоматично, что определенные сферы деятельности остаются «закрытыми» для героини, при том, что они доступны для героя. Мы уже указали на специфику творческих занятий для женщин, аналогичная ситуация складывалась и с другими профессиональными сферами. Среди допустимого для женщин полностью отсутствует противоправная деятельность. Для женщины невозможен вариант с выражением социального протеста через антиобщественные действия, и если герой-романтик может стать разбойником или пиратом, то для героини этот путь закрыт.
Итак, можно сказать, что в каких-то аспектах образы романтического героя и героини схожи, отражая общую направленность мировоззрения эпохи, но в то же время те черты, которые напрямую зависели от социальных установок, различаются в зависимости от половой принадлежности персонажа. Женщина в рамках системы образов «слабее» мужчины, зависит от него, не наделена в такой же мере самостоятельностью поступков и мышления. Разница обусловлена существующим в действительности неравноправием, и в то же время оказывает дополнительное программирующее воздействие, закрепляя в массовом сознании конкретную модель женского романтического поведения.
Бытовое романтическое поведение в целом более «умеренное», чем представленное в искусстве. О нем можно судить как по отдельным художественным источникам, где достоверно описана эпоха первой половины XIX в. 2, так и по мемуарной литературе 3, в большом количестве создававшейся в указанный период, к чему располагала общая «лирическая» атмосфера эпохи.
В реальной жизни женщина связана общественными условностями и многовековой традицией. Мужчина в XIX в., при всем уважении к социальным нормам, все-таки существо самостоятельное, тогда как женщина независимостью практически не обладала. Она гораздо больше, чем мужчина, ориентирована на социальный конформизм, во-первых, из-за имущественной зависимости, во-вторых, из-за угрозы общественного бойкота, что для женщины, для которой социальная поддержка чрезвычайно важна как для профессиональной, так и для личностной реализации, равносильно гибели [Абрамс, 2011; Келли, 2003].
Романтичность женщин в быту проявляется в более ограниченных формах, чем у мужчин. По сути, в быту романтическая модель женского характера предельно упрощается, сводясь к нескольким наиболее безопасным с точки зрения общественных устоев, но в то же время выразительным элементам. Во-первых, женщины подчеркивали свою эмоциональность, доходя до откровенной наигранности и экзальтации. Малейшее расстройство или радость в дворянском кругу вызывали поток несдержанных эмоций, выплескивавшихся на окружающих.
Погоня за необычными ощущениями ограничивалась исключительно социально приемлемыми формами, как правило, интересом к наиболее необычным личностям из своего окружения, стремлением обсуждать экстраординарные события, но отнюдь не участвовать в них. Выход виделся в поиске соответствующей литературы, где можно прочесть о необыкновенных героях и происшествиях [Институтки…, 2008].
Активно развивалось присвоение непрожитого опыта – романтические барышни строили свою жизнь в соответствии с сюжетами прочитанных романов, а поскольку им неоткуда было взять соответствующий опыт (общественные нормы по отношению к юным незамужним девушкам в России были весьма суровы), то они придумывали себе достойное прошлое и бурное настоящее, как правило, с любовными историями. Важно, что все эти неординарные биографии «проживались» исключительно в воображении, никогда не переходя в плоскость практического воплощения – барышня могла придумывать себе рокового любовника, который собирается похитить ее из отчего дома на вороном коне, но никогда не покидала родных стен в реальности.
Интуитивное мышление, мистицизм в женской среде находили более питательную почву, чем в мужской. Имея больше свободного времени, отличаясь меньшим запасом знаний, женщины легче увлекались суевериями. В женской среде процветали гадания на картах и по гадательным книгам, пользование услугами профессиональных гадалок, вера в существование предопределения. Женщины в массе своей более религиозны.
Творческое начало в женском мире обычно приобретало камерные формы: представительницы высшего и даже среднего сословия учились рисовать (пусть даже копии по образцу через стекло), петь, играть на фортепьяно, танцевать, вышивать и изготавливать художественные безделушки из бисера, кружев, лент и т. п. Это было необходимой частью домашнего и институтского женского образования того времени. Создание копий произведений искусства и изготовление мелких декоративных изделий считалось вполне достаточным свидетельством принадлежности к творческим натурам. Считалось, что для этого достаточно быть знакомым с людьми искусства, участвовать в салонах [Вигель, 2008].
Оригинальность характера и внешности в случае с женщинами очень сильно ограничивается общественными предрассудками. Без всякого риска могли вести себя оригинально только старые девы и богатые вдовы. Замужние женщины обычно не могли одеваться и вести себя слишком экстравагантно, чтобы не испортить репутацию мужа. Девушки предпочитали держаться «в рамках», опасаясь разрушить для себя всякую перспективу заключения удачного брака. Необходимость этого брака поддерживалась до определенной степени самой романтической литературой, где героини в основной массе имели возлюбленного, хотя и не обязательно состояли с ним в законном браке.
На уровне бытовавшего общественного мнения одиночество молодой женщины в XIX в. ассоциировалось с социальной несостоятельностью. Единственной приемлемой формой длительных взаимоотношений мужчины и женщины был законный брак – желая обзавестись возлюбленным, девушка была обречена идти по пути законного супружества [Абрамс, 2011. С. 83–201]. Одинокая женщина – это та, которая осталась невостребованной, т. е. обладает неким явным или скрытым пороком. Женщина без мужа и детей могла вызывать по преимуществу только сочувствие, потому что других способов реализации (в профессии, в общественной деятельности) для женщин тогда практически не предусматривалось. Чтобы не закрыть себе дорогу к любви, девушка должна была выделяться из толпы «безопасным» образом, не производя при этом впечатление ненормальной. В ход обычно шли уже упоминавшаяся экзальтированность, выставляемая напоказ тонкая душевная организация, преднамеренно простой или, наоборот, изысканный наряд, томная бледность, хрупкость телосложения, которой барышни добивались порой варварскими методами, например, специально портя себе желудок.
В заключение следует повторить, что в целом образ романтической героини по сравнению с героем-романтиком оказывается более упрощенным, не воплощающим в себе всех разнообразных аспектов романтического характера – из-за изначально зависимого положения женщины в обществе.
В быту романтическая модель женского поведения сталкивалась с еще большим количеством предрассудков и ограничений, так что мало соответствовала истинному духу полноценного романтизма.
Список литературы Романтический герой и романтическая героиня в литературе первой половины XIX века
- Абрамс Л. Формирование европейской женщины новой эпохи. 1789-1918. М., 2011.
- Байрон Дж. Г. Избр. произведения: В 2 т. М., 1987.
- Берковский Н. Я. Статьи и лекции по зарубежной литературе. СПб., 2002.
- Большакова О. В. История России в гендерном измерении: современная зарубежная историография. М., 2010.
- Вигель Ф. Ф. История светской жизни императорской России. М., 2008.
- Выготский Л. С. Психология искусства. М., 2010.
- Институтки. Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц. М., 2008.
- Келли К. Воспитание Татьяны: нравы, материнство, нравственное воспитание в 1760-1840-х гг. // Вопр. литературы. 2003. № 4. С. 61-97.
- Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII - нач. XIX в.). СПб., 1994.
- Маймин Е. А. О русском романтизме. М., 1975.
- Маррезе М. Л. Бабье царство: дворянки и владение имуществом в России (1700-1861). М., 2009.
- Пол. Гендер. Культура: Немецкие и русские исследования / Под ред. Э. Шоре М., 2009.
- Пушкарева Н. Л. Русская женщина: история и современность. Два века изучения «женской темы» русской и зарубежной наукой, 1800-2000: Материалы к библиографии. М., 2002.
- Русская романтическая повесть. М., 1992.
- Храповицкая Г. Н., Коровин А. В. История зарубежной литературы: западноевропейский и американский романтизм / Под ред. Г. Н. Храповицкой. М., 2003.