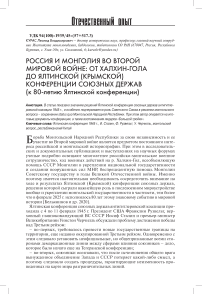Россия и Монголия во Второй мировой войне: от Халхин-Гола до Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав (К 80-летию Ялтинской конференции)
Автор: Курас Л.В.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 4 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье показано значение решений Ялтинской конференции союзных держав антигитлеровской коалиции 1945 г. и особенно подчеркивается роль Советского Союза в решении монгольского вопроса – сохранении status quo Монгольской Народной Республики. При этом автор опирается на итоговые документы конференции, а также воспоминания лидеров «Большой тройки».
Ялтинская конференция 1945 г., И. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль, монгольский вопрос, республиканский Китай
Короткий адрес: https://sciup.org/170211087
IDR: 170211087 | УДК: 94(100)»1939/45»(57+517.3)
Текст научной статьи Россия и Монголия во Второй мировой войне: от Халхин-Гола до Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав (К 80-летию Ялтинской конференции)
Б орьба Монгольской Народной Республики за свою независимость и ее участие во Второй мировой войне является предметом постоянного интереса российской и монгольской историографии. При этом в исследовательских и документальных публикациях и выступлениях на научных форумах ученые подробно освещают многолетнее российско-монгольское военное сотрудничество, ход военных действий на р. Халхин-Гол, всеобъемлющую помощь СССР Монголии в укреплении национальной государственности и создании вооруженных сил МНР, беспрецедентную помощь Монголии Советскому государству в годы Великой Отечественной войны. Именно поэтому имеется настоятельная необходимость сосредоточить внимание на ходе и результатах Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав, решения которой сыграли важнейшую роль в послевоенном мироустройстве вообще и укреплении монгольской государственности в частности, тем более что в феврале 2025 г. исполнилось 80 лет этому знаковому событию в мировой истории [Бельянинов и др. 2020].
Ялтинская конференция союзных держав антигитлеровской коалиции проходила с 4 по 11 февраля 1945 г. Президент США Франклин Рузвельт, верховный главнокомандующий ВС СССР Иосиф Сталин и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль обсуждали проблему достижения победы над Третьим рейхом:
– во-первых, требовалось провести новые государственные границы на территории, еще недавно оккупированной Третьим рейхом. Одновременно с этим следовало установить неофициальные, но общепризнанные всеми сторонами демаркационные линии между сферами влияния союзников – дело, которое было начато еще на Тегеранской конференции;
– во-вторых, союзники осознавали, что после исчезновения общего врага вынужденное объединение Запада и СССР потеряет какой-либо смысл, а поэтому следовало создать процедуры, гарантирующие неизменность проведенных на карте мира разграничительных линий.
Этому способствовала международная обстановка, характеризовавшаяся двумя обстоятельствами: во-первых, война вступила в решающую стадию, и победа над гитлеровской Германией была лишь вопросом времени; во-вторых, открытие второго фронта, когда военные действия союзников были перенесены на территорию Германии и судьба Европы находилась в руках трех государств. И лидеры «Большой тройки» приняли решение о разделе Германии на зоны оккупации. Одновременно с этим было принято решение о полном разоружении Германии, роспуске всех ее вооруженных сил, наказании военных преступников, ликвидации нацистской партии.
На Ялтинской конференции был решен главный вопрос – о создании ООН и созыве 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско конференции для подготовки устава этой организации. В ходе работы была принята специальная декларация «Единство в организации мира, как и в ведении войны». Стороны также подписали Декларацию об освобожденной Европе. Кроме того, на конференции обсудили вопросы отдельных европейских государств: польский вопрос, будущее устройство Югославии и Греции, был найден компромисс по вопросу о компенсации Германией странам-победителям за причиненный ущерб. Все рассмотренные вопросы нашли отражение в итоговом документе «Конференция руководителей трех союзных держав – Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании в Крыму»1, который стал основой послевоенного устройства Европы.
Однако в итоговом документе мы не находим решения Ялтинской конференции о Монголии. В своих воспоминаниях У. Черчилль подчеркивает: «Дальний Восток не играл никакой роли в наших официальных переговорах в Ялте. Я знал, что американцы намерены поднять перед русскими вопрос об их участии в войне на Тихом океане… Американские военные власти определили, что для разгрома Японии потребуется полтора года после капитуляции Германии. Помощь русских сократила бы тяжелые потери американцев» [Черчилль 1991: 536].
Следует подчеркнуть, что в преддверии конференции правительственные ведомства США подготовили президенту Памятку, в которой указывалось: «Мы должны иметь поддержку Советского Союза для разгрома Германии. Мы отчаянно нуждаемся в Советском Союзе для войны с Японией по завершению войны в Европе» [Яковлев 1981: 384-385]. В этой связи удивление вызывают воспоминания будущего президента США Дуайта Эйзенхауэра, который, будучи главнокомандующим союзными силами в Западной Европе, высказывал свои «соображения президенту Трумэну в отношении намерений русских вступить в войну против Японии». Он пишет: «Поскольку имеющиеся сведения указывают на неизбежность скорого краха Японии, я категорически возражаю против вступления Красной Армии в эту войну. Я предвидел определенные трудности, которые будут порождены ее участием в войне, и предлагал, чтобы, по крайней мере, мы не ставили себя в положение упрашивающих или умоляющих русских о помощи» [Эйзенхауэр 1989: 499]. Неслучайно этот сюжет воспоминаний пятизвездного генерала комментирует автор предисловия и комментариев к мемуарам доктор исторических наук О.А. Ржешевский: «Советские намерения вступить в войну с Японией были обусловлены настойчивыми просьбами об этом США, а также Англии и соответствующим решением, принятым на Крымской конференции» [Эйзенхауэр 1989: 499]. Но еще лучше создавшуюся ситуацию характеризует решение Высшего совета по руководству войной, заседавшего в Токио в мае 1945 г., приведенное О.А. Ржешевским: «Независимо от развития военных действий против Великобритании и Америки, крайне необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить вступления СССР в войну с нами. Начало войны с СССР будет роковым ударом для нашей империи» [Эйзенхауэр 1989: 499].
8 февраля президент Рузвельт и посол США в СССР Гарриман сугубо конфиденциально обсудили с И. Сталиным «вопрос о территориальных требованиях России на Дальнем Востоке. Россия согласилась вступить в войну против Японии через два или три месяца после капитуляции Германии» [Черчилль 1991: 536]. Далее У. Черчилль пишет: «В тот же день в ходе конфиденциальной беседы со Сталиным я спросил его, чего русские хотят на Дальнем Востоке. Он ответил, что они хотят получить военно-морскую базу, такую, например, как Порт-Артур… Я ответил, что мы будем приветствовать появление русских кораблей в Тихом океане» [Черчилль 1991: 537].
На другой день, 11 февраля, был подписано секретное Крымское соглашение трех великих держав по вопросам Дальнего Востока1. Этот документ оставался секретным полгода, пока не состоялись переговоры между СССР и Китайской республикой. К чести У. Черчилля, он полностью приводит в своих мемуарах основные положения этого Соглашения:
-
1) сохранение статус-кво Внешней Монголии (Монгольская Народная Республика);
-
2) восстановление принадлежавших России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 г., а именно:
-
а) возвращение Советскому Союзу южной части о. Сахалин и всех прилегающих к ней островов;
-
б) интернационализация торгового порта Дайрена с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза в этом порту и восстановление аренды на Порт-Артур как на военно-морскую базу СССР;
-
в) совместная эксплуатация Китайско-Восточной железной дороги и Южно-Маньчжурской железной дороги, дающей выход в Дайрен, на началах организации смешанного советско-китайского общества с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза, при этом имеется в виду, что Китай сохраняет в Маньчжурии полный суверенитет;
3) передача Советскому Союзу Курильских островов [Черчилль 1991: 537].
Почему же это соглашение было секретным? Документ предполагал, что потребуется согласие Чан Кайши, и, по свидетельству У. Черчилля, Ф. Рузвельт взялся добиться этого согласия [Черчилль 1991: 537]. Дело в том, что даже в разгар Второй мировой войны Китай не оставлял надежды вернуть Монголию. Так, в январе 1942 г. оперативный отдел Военного комитета Китайской республики подготовил документ, имевший специфический раздел «О включении Северной Монголии в состав Китайской Республики» [Черевко 2003]. Попытку изменить государственную границу китайская делегация предприняла и на Каирской конференции трех государств (США, Великобритания, Китай) 22–26 апреля 1943 г. [Монголия во Второй…2017: 150]. Неслучайно последний абзац секретного Крымского соглашения трех великих держав по вопросам Дальнего Востока гласил: «Со своей стороны Советский Союз выражает готовность заключить с национальным Китайским Правительством пакт о дружбе и союзе между СССР и Китаем для оказания ему помощи своими вооруженными силами в целях освобождения Китая от японского ига».
Китайское руководство долгое время не знало о содержании Ялтинского соглашения. Информация о результатах встречи глав ведущих держав дошла до Чан Кайши лишь в июне 1945 г. В течение июня–июля дипломатическое ведомство Китая предпринимало активные шаги по монгольскому вопросу, но эти попытки оказались безуспешными.
17 августа 1945 г. газета «Правда» опубликовала документ от 14 августа 1945 г. «О независимости Монгольской Народной Республики», подписанный народным комиссаром иностранных дел Союза ССР В.М. Молотовым и министром иностранных дел Китайской Республики Ван Шицзе. В документе подчеркивалось: «Ввиду неоднократного выражения народом Внешней Монголии стремления к независимости, Китайское правительство заявляет, что после поражения Японии, если плебисцит народа Внешней Монголии подтвердит это стремление, Китайское правительство признает независимость Внешней Монголии в ее существующих границах»1.
21 сентября 1945 г. президиум Малого хурала МНР принял постановление о проведении 20 октября 1945 г. плебисцита. За государственную независимость проголосовали все граждане Монголии, принявшие участие в голосовании. В январе 1946 г. китайское руководство признало независимость МНР, а в феврале того же года были установлены дипломатические отношения между МНР и Китайской Республикой [Цыбенов 2015].
Таким образом, монгольский народ отстоял свободу и государственную независимость. И хотя монгольская государственность в исторических границах не была достигнута, тем не менее результат был несомненной победой. И в достижении этой победы определяющую роль сыграли Ялтинское (Крымское) соглашение трех великих держав от 11 февраля 1945 г. и твердая позиция Советского Союза.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ «Маньчжуро-монгольский мир Внутренней Азии в первой половине ХХ в.» (№ 22-68-00054).