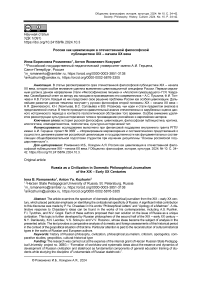Россия как цивилизация в отечественной философской публицистике XIX - начала ХХ века
Автор: Романенко И.Б., Кожурин А.Я.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается срез отечественной философской публицистики XIX - начала ХХ века, которая особое внимание уделяла выявлению цивилизационной специфики России. Первым серьезным шагом в данном направлении стали «Философические письма» и «Апология сумасшедшего» П.Я. Чаадаева. Своеобразный ответ их автору мы находим в произведениях его современников - А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева и Н.В. Гоголя. Каждый из них предложил свое решение проблемы России как особой цивилизации. Дальнейшее развитие данная тематика получает у русских философов второй половины XIX - начала XX века - Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, В.С. Соловьёва и В.В. Розанова, чьи идеи и стали предметом анализа в представленной статье. В тексте проводится сравнительный анализ отечественных и зарубежных оценок данного исторического периода в контексте геополитической обстановки того времени. Особое внимание уделяется реконструкции культурно-исторических типов в произведениях российских и европейских авторов.
История русской философии, цивилизация, философская публицистика, критика, апологетика, компаративистика, геополитика, культурно-исторический тип
Короткий адрес: https://sciup.org/149147045
IDR: 149147045 | УДК: 1(091) | DOI: 10.24158/fik.2024.10.3
Текст научной статьи Россия как цивилизация в отечественной философской публицистике XIX - начала ХХ века
, ,
1,2Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, Russia , ,
Потребность иностранцев знать как можно больше о России и русских (по словам В.В. Розанова, «что обещают и чем грозят» (Розанов, 1994: 8)) существовала в разные времена и в связи с разными историческими событиями и обстоятельствами. Это проявилось в обращениях издателей и редакторов европейских журналов и тематических сборников к русским философам и писателям о написании статей, открывающих иностранным читателям неизвестный мир России. Вопросы, интересовавшие иностранцев, в основном касались особенностей России, ее культуры, исторического предназначения, русской истории (отдельных ее периодов), русской церкви и духовенства, самого существа «русской веры», русской религиозности (в ее отличии от западной), отношений России и Европы и т. п. Ответы русских мыслителей на поставленные вопросы часто были широкими и точными, иногда даже провокационными. Но в целом они были рассчитаны на умного, образованного, думающего читателя, вопрошающего как о важных проблемах, так и о деталях и конкретных событиях.
Мощный импульс развитию полемических настроений и дискуссии о судьбах России и ее историческом предназначении, развернувшейся на страницах журналов и в переписке, несомненно, был задан П.Я. Чаадаевым («Философические письма» и «Апология сумасшедшего»). Критический взгляд на историю России был предложен мыслителем в «Философическом письме», опубликованном в 1836 г. Негативная реакция на него заставила П.Я. Чаадаева несколько перефразировать некоторые положения «Письма» в «Апологии сумасшедшего». В ней автор возлагает надежду на просвещение и осознание национальной идеи как провиденциального, мистического акта (много позднее определенного В.С. Соловьёвым: « Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности 1 (Соловьёв, т. 1, 1989: 220). Все это определяет просвещенный патриотизм мыслителя (хотя сам П.Я. Чаадаев использует понятие «сознательный патриотизм») и уверенность в реализации того скрытого потенциала, которым обладает русский народ.
Историзм П.Я. Чаадаева глубоко рационален в противоположность поверхностной эмоциональности восприятия мира, недостойной образованного человека: «Прекрасная вещь – любовь к отечеству, но есть нечто более прекрасное – это любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества» (Чаадаев, 1991: 523). И если любовь к родине часто разделяет народы, питая национальную ненависть, то любовь к истине, по мнению мыслителя, «распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к Божеству» (Чаадаев, 1991: 523).
Отмечая значительность преобразований Петра Великого, мыслитель оговаривает и факт отсутствия сопротивления его преобразованиям со стороны народа (отсутствие «свободного почина» в народном сознании), а также сам факт заимствования многих идей с Запада, что вовсе не является чем-то обидным или постыдным для народа, поскольку историю создает «сила вещей», а не разум историка. История для мыслителя не является вереницей событий или фактов, но предстает как цепь взаимосвязанных идей : «Каждый факт должен выражаться идеей; через события должна нитью проходить мысль как принцип, стремясь осуществиться: тогда факт не потерян, он провел борозду в умах, запечатлелся в сердцах» (Чаадаев, 1991: 527). За каждым событием стоит идея. Настоящее просвещение будет способствовать тому, что сам народ проникнется идеей, которую он призван осуществить, и тогда начнет выполнять ее в соответствии со своим предназначением.
П.Я. Чаадаев усматривал некоторые преимущества в положении, в котором находилась современная ему Россия и русский народ, и полагал, что она может созерцать и судить мир «со всей высоты мысли». У философа присутствовало убеждение в том, что именно Россия призвана в будущем решать большую часть проблем социального порядка, отвечать на важнейшие вопросы, какие занимают человечество, подчеркивая: «Мы … самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибунами человеческого духа и человеческого общества» (Чаадаев, 1991: 534).
Последующие времена, в частности ХХ век, показали, что произошло со странами, некогда бывшими «образцами цивилизации», какие превращения они претерпели, какие социальные испытания выпали им на долю. Преимущества России откроются тогда, по мнению мыслителя, когда она будет повиноваться голосу «просвещённого разума», измеряя каждый шаг, продумывая каждую идею. Россия обладает такими ресурсами, которые позволяют ей надеяться на благоденствие гораздо более широкое, чем то, о котором мечтают западные страны. Россия достаточно быстро достигла того уровня цивилизации, которому удивляется просвещенная Европа. У мыслителя не вызывает тревоги судьба народа, «из недр которого вышли могучая натура
Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина». Но П.Я. Чаадаев указывает еще на один фактор, господствующий над историческими судьбами России, и определивший ее политическое величие, но не получивший должного освещения в рассмотренных нами работах. Это фактор географический. Внимание указанному фактору будет уделено в трудах русских мыслителей более позднего периода, некоторые их соображения мы в свое время рассмот-рели1 (Романенко, 2023; 2024).
Особого внимания в аспекте поднятых проблем заслуживает письмо А.С. Пушкина от 19 ноября 1836 г. к П.Я. Чаадаеву (не отосланное и обнаруженное уже после смерти поэта), написанное после прочтения им первого «Философического письма» П.Я. Чаадаева, опубликованного в журнале «Телескоп». Общеизвестно, что поэта отличала широчайшая образованность, глубокое знание и тонкое понимание русской словесности, обширные познания в области истории российской. В этом отношении очень показательна, например, его домашняя библиотека, сохранившаяся в его петербургском доме на Мойке.
В кратком по листажу письме поэт дает очень точные и глубокие оценки русской истории и отдельных ее этапов. Но главное, поэт ставит вопросы и подводит итоги исторического развития России: «Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, – как неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Пётр Великий, который один есть всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел нас в Париж? И (положа руку на сердце) разве не находите Вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли Вы, что он нас поставит нас вне Европы?» (Рильке, 1971: 689).
Достаточно развернутый ответ на этот вопрос даст несколькими годами позднее русский дипломат, мыслитель и поэт Ф.И. Тютчев (о чем речь пойдет далее). Но прежде отметим особую тональность данного письма А.С. Пушкина, обращенного к потомкам: «Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал» (Пушкин, 1979: 689).
Примечательны в отношении поставленных выше проблем размышления Ф.И. Тютчева, также стоявшего на позициях «просвещённого патриотизма», относительно того, что «Господь сам определяет, на чьей Он стороне» в противостоянии стран и цивилизации. Приведем в качестве подтверждения данного тезиса отрывок из письма к редактору газеты « Augsburger Allge-meine Zeitung » Густаву Кольбу (1844 г., впоследствии это письмо было опубликовано в России в форме статьи «Россия и Германия» в журнале «Русский архив» в 1873 г.): «Моё письмо не будет заключать в себе апологии России… Боже мой! Эту задачу принял на себя мастер, который выше нас всех, и который, мне кажется, выполнял ее до сих пор довольно успешно. Истинный защитник России – это история; ею в течение трех столетий неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которым подвергает она свою таинственную судьбу…» (Тютчев, 1992: 93).
Характеризуя историософские установки Ф.И. Тютчева, В.В. Кожинов писал: «Наиболее крупный геополитический феномен – континент-государство, или, вернее, континент-империя. С внешней точки зрения, Европа, например, представляется суммой отдельных земель-государств, однако в тысячелетней европейской истории не единожды создавалась так или иначе, в той или иной мере объединявшая континент империя , которая как бы существует подспудно и тогда, когда ее нет налицо. Об этом проникновенно писал еще полтора века назад великий поэт и мыслитель Фёдор Тютчев» (Кожинов, 2016: 622).
В жизни Запада на протяжении веков мы наблюдаем стремление не видеть и не принимать всерьез ничего кроме себя, что, в свою очередь, выливалось во враждебное отношение к России и всему русскому. Запад не воспринимал ее как «мир, единый по своему началу, солидарный в своих частях, живущий своею собственною органическою, самобытною жизнью» (Тютчев, 1992: 96). Ф.И. Тютчеву принадлежит сравнение о том, что долгое время отношение Запада к России напоминало отношение к Колумбу его современников, отказывающихся верить в существование нового материка. Саму природу «необычайного расширения России» он характеризует как дело органическое, законное, связанное с «громадным воссоединением ( Restauration )» земель. Выход на мировую арену России стабилизировал европейский мир, восстановил европейское единство, даже несмотря на то, что это единство в форме коалиций было направлено против самой России.
Мир в Европе, наступивший после наполеоновских войн, Ф.И. Тютчев связывает с вмешательством Востока в дела Запада. Характеризуя жизнь в Европе после победы русской армии над Наполеоном, он отмечает: «Всё изменилось в Европе, до тех пор вас было двое, а теперь нас трое, и долгие годы борьбы сделались невозможными» (Тютчев, 1992: 97). Россия вмешалась в веками длившийся конфликт – противостояние Германии и Франции. Историческая миссия
России видится мыслителю в том, чтобы утвердить главенство права и «исторической законности над революционным движением» – в этом состоит призвание и предназначение России, обеспечивающее ее будущее и отличие от других народов и государств. Основываясь на таком видении мира, Россия сумела воспрепятствовать тому, чтобы разного рода политические авантюристы не смогли совратить и «отторгнуть целые народности от центра их установившегося единства и затем перекроить их по воле своих бесчисленных фантазий» (Тютчев, 1992: 98).
Поясняя особенность российско-германских отношений, Ф.И. Тютчев отмечает, что Россия никогда не давила на Германию и не проповедовала её единство, но на протяжении тридцати лет внушала германским правителям, пытаясь смирить их воинственность, согласие, единодушие, взаимное доверие, «добровольное подчинение частных интересов великому вопросу всеобщего блага», делая это терпеливо, бескорыстно и доброжелательно. Он отдаёт должное русскому консерватизму и заслугам русского монарха, находящегося на престоле, как политику просвещённому, приверженцу «исторической законности» (речь идёт о Николае I, который в течение почти тридцати лет занимал российский престол (1825–1855)).
Просвещённый патриотизм Ф.И. Тютчева проявлялся и в делах практических, различных дипломатических и гуманитарных миссиях поэта, в его деятельности по созданию привлекательного облика России в Западной Европе через широчайший круг знакомств, общение с западными политиками, интеллектуалами, переписку, написание статей, комментариев и т. п. Комментируя неизбежную схватку со всей Европой в Крымской войне (1853–1856) и ранее сложившийся «политический заговор» в форме широкой коалиции европейских государств, каждое из которых преследовало свои частные интересы: от имперских (Британия, Австрия, Турция) до реваншистских (Франция).
Крымская война (по словам Ф.И. Тютчева «мировая война в миниатюре», проходившая на Крымском полуострове) закончилась подписанием очень невыгодного России Парижского договора в начале 1856 г. («Парижский трактат»). Подписал его министр иностранных дел граф Нессельроде, проявивший себя как слабый и недальновидный политик, которого вскоре отправили в отставку. По его условиям Россия утрачивала право иметь военный флот на Чёрном море, теряла часть земель в Бессарабии и устье Дуная. На его место министром иностранных дел при поддержке Ф.И. Тютчева был назначен А.М. Горчаков, с которым его связывали долгие годы дружбы и совместной работы на дипломатическом поприще. Великий русский дипломат, впоследствии получивший за свои заслуги чин канцлера Российской империи и титул святейшего князя, поставил и реализовал амбициозные задачи по денонсированию Парижского договора («превращению поражения в победу») и изменению расклада сил в Европе в пользу России чисто дипломатическими методами, без войны и кровопролития.
Стратегические задачи России были сформулированы в Декларации о направлениях новой внешней политики России (знаменитый «циркуляр Горчакова» от 21 августа/2 сентября 1856 г.), где были провозглашены новые внешнеполитические цели о следовании национальным интересам России, ее самодостаточности, о развитии внутренних сил и ресурсов России, в чем ему удалось убедить и вступившего на трон в 1855 г. Александра II. Кратко содержание данного «циркуляра» выражено в хорошо известном тезисе А.М. Горчакова «Россия не сердится, Россия сосредотачивается».
Взятая пауза (от проведения активных внешнеполитических действий) позволила сосредоточиться на осуществлении дипломатических маневров, дипломатической переписке и переговорах с иностранными службами и коллегами, что в результате закончилось в 1871 г. рассылкой иностранным посольствам писем о том, что Россия далее не намерена соблюдать Парижский договор, что, в свою очередь, привело в негодование правительство Англии. Точно и прозорливо было выбрано время для рассылки правительственных депеш. Франция и Австрия были ослаблены неудачными войнами с Пруссией, поэтому собрать новую коалицию против России не удалось. Тем самым были еще раз продемонстрированы исторические различия англосаксов и русских в осуществлении внешней политики: первые умеют быстро переключаться в случае возникшей необходимости на другие методы воздействия, проблемы и регионы, в то время как Россия умеет сосредотачиваться на решении собственных проблем и мобилизации внутренних ресурсов.
Свое концептуальное развитие историософские интуиции Ф.И. Тютчева нашли в работе Н.Я. Данилевского «Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому», которая публиковалась в журнале «Заря» на протяжении 1869 г. В ней автор выдвинул концепцию культурно-исторических типов. Именно культурно-исторический тип – основная реальная и самодовлеющая единица истории. Его можно характеризовать как систему взглядов, определяемых культурными, психологическими и иными факторами, присущими народу или совокупности близких по духу и языку народов.
Автор «России и Европы» выделяет десять типов, совершивших полный цикл развития: 1) – египетский; 2) – китайский; 3) – ассирийско-вавилоно-финикийский (халдейский или древнесемитический); 4) – индийский; 5) – иранский; 6) – еврейский; 7) – греческий; 8) – римский; 9) – аравийский (новосемитический); 10) – германо-романский (европейский). Двумя типами, не успевшими совершить полного цикла, мыслитель считал мексиканский и перуанский, ставшие жертвами испанских конкистадоров. Кроме того, Н.Я. Данилевский выделял четыре разряда культурной деятельности, в рамках которых те или иные народы осуществляли свое предназначение: религиозную, собственно культурную, политическую и общественно-экономическую.
Ранние типы Н.Я. Данилевский считал первичными или «автохтонными», они лишь вырабатывали условия, которые делали возможной жизнь в организованном обществе, а, следовательно, ни один из вышеуказанных видов деятельности не мог стать в них преобладающим. Первым культурно-историческим типом, имевшим всепроникающее значение одного принципа, был еврейский, создавший монотеистическую религию. Греческий тип был исключительно культурным в собственном значении этого слова, оставив непревзойденные образцы как теоретической, так и особенно художественной деятельности. В свою очередь, преимущественной сферой приложения римского гения была политика. Германо-романский тип развил два начала, которые были разделены в античных цивилизациях – политическое и собственно культурное.
Европейская цивилизация, однако, не смогла удовлетворительно разрешить социальный вопрос, что под силу, по мнению автора «России и Европы», лишь качественно новому типу. Таковым он считал «славянский тип», наиболее полно выраженный в русском народе. Будущая «всеславянская федерация» не только удовлетворительно разовьет общественно-экономическую сторону человеческой деятельности, но и явит, как надеялся Н.Я. Данилевский, наиболее полный и творческий культурно-исторический тип – «четырёхосновный» (Кожурин, 2020).
Н.Я. Данилевский надеялся, что будущий славянский культурно-исторический тип принесет еще более блестящие плоды, и в этой связи выдвигал следующую максиму: «… для всякого славянина: русского, чеха, серба, хорвата, словенца, словака, болгара (желал бы прибавить и поляка), – после Бога и Его святой Церкви, – идея славянства должна быть высшею идеею, выше науки, выше свободы, выше просвещения, выше всякого земного блага , ибо ни одно из них для него недостижимо без ее осуществления – без духовно, народно и политически самобытного, независимого славянства; а, напротив того, все эти блага будут необходимыми последствиями этой независимости и самобытности» (Данилевский, 1995: 107).
Это место «России и Европы» еще в XIX веке вызвало множество нареканий. Так, наиболее известный оппонент Н.Я. Данилевского Вл. Соловьёв обвинял его в пренебрежении к науке и просвещению, в сведении идеи славянства к чисто этнографической особенности этого племени и тому подобных грехах. Теорию Н.Я. Данилевского Вл. Соловьёв объявляет «ползучей», крепко держащейся за существующие основы общества, а не противопоставляющей им некую пророческую утопию, как это было в случае платоновской концепции идеального государства, опередившей свое время на столетия и обрисовавшей контуры будущего средневекового государства (Соловьев, т. 2, 1989: 334).
Уже после смерти Н.Я. Данилевского вокруг его идейного наследия началась ожесточенная полемика. В ней приняли участие выдающиеся интеллектуалы того времени. Среди критиков автора «России и Европы» были Н.И. Кареев, В.С. Соловьёв и П.Н. Милюков. Защитниками его концепции выступили К.Н. Леонтьев, Н.Н. Страхов и В.В. Розанов. Наиболее последовательный спор шел между В.С. Соловьёвым и Н.Н. Страховым, которые в его ходе написали целый ряд статей, посвященных концепции Н.Я. Данилевского (Леонтьев, 1996: 70‒89).
Наиболее последовательным сторонником культурно-цивилизационной теории в XIX веке был К.Н. Леонтьев. Подобно указанным выше авторам, он обладал разнообразными талантами и ярко проявил себя на различных поприщах – философском, литературном, дипломатическом, духовном. Известно также и то, что на К.Н. Леонтьева сильное влияние оказала философско-историческая концепция, изложенная в «России и Европе». В этой книге он увидел многое, созвучное его собственным идеям. Вспомним, однако, что еще в 1867 г. К.Н. Леонтьев опубликовал в «Одесском вестнике» статью, в которой высказал, пусть и в конспективном виде, свою идею «триединого процесса» (Леонтьев, 1996: 137–138).
К.Н. Леонтьев учился на медицинском факультете Московского университета. Когда началась Крымская война, он стал военным медиком и находился на службе до ее окончания. Далее, радикально поменяв род деятельности и поступив на службу в Министерство иностранных дел, К.Н. Леонтьев в течение продолжительного времени исполнял дипломатические обязанности на территории Османской империи (1863‒1871). Анализируя жизнь Западной Европы, философ дал ей резко критическую оценку, чему свидетельство его работы 1870–1880-х гг. («Грамотность и народность», «Письма о восточных делах», «Национальная политика как орудие всемирной революции» и др.).
Размышляя об историческом предназначении России, К.Н. Леонтьев употребляет понятие «роковое назначение» в том смысле, что свершение исторических судеб не столько зависит от человеческих действий и намерений, сколько от «чего-то высшего и неуловимого». В данной связи и возникает проблема идеала и, прежде всего, в определении путей развития России. Как подчеркивает философ, этот идеал должен быть самый возвышенный, широкий, смелый из всех возможных, чтобы он мог открыть путь «дальнейшего, правильного и спасительного развития» России, которое он мыслит как «усиление организованной, т. е. дисциплинированной разнородности» (в отличие от прогресса как стремления к «смешению в однообразии, т. е. разрушение всего разнообразного»). В данном контексте К.Н. Леонтьев отмечает уникальность России как социального организма: «Россия – не просто государство; Россия, взятая во всецелости со всеми своими азиатскими владениями, – это целый мир особой жизни, особый государственный мир, не нашедший ещё себе своеобразного стиля культурной государственности » (Леонтьев, 1996: 370).
Всем своим развитием и даже существованием наша страна обязана не славянству, а византизму. В этом был убежден К.Н. Леонтьев. Именно в России византийские начала дали свои наиболее зрелые плоды, а наша страна смогла превратиться в великое государство-цивилизацию. Давая свою интерпретацию «византизма», К.Н. Леонтьев утверждал, что в деле государственного устройства он предполагает самодержавие и послушание властям. Самодержавию не дает превратиться в тиранию принцип «симфонии», предполагающий церковную основу власти. Власть базируется не только на силе, но и на нравственных основаниях. Церковность, о которой идет речь – это православие. Социально-экономическая основа византизма – «сельский поземельный мир». Все эти элементы представляют консервативные скрепы, которые на протяжении столетий способствовали существованию России в качестве великой страны, преемницы Византии (Хатунцев, 2007).
У К.Н. Леонтьева мы видим подчеркивание специфики русского народа и русской цивилизации, их принципиальное отличие от других славян. Много лет пробыв на дипломатической службе в Османской империи, он предпочитал турок всем многочисленным славянским племенам. Русских и османов объединяла способность к государственному строительству (причем имперского характера), дисциплина и покорность властям, искренняя религиозность. Мыслитель указывал на значительную роль, которую сыграли в образовании русского дворянства выходцы из Золотой Орды. Предвосхищая последующее евразийство, К.Н. Леонтьев даже писал: «Мы, загадочные славяно-туранцы» (Леонтьев, 1996: 430). В этих словах мы видим своеобразное предвосхищение евразийства – влиятельного идейного течения послереволюционной эпохи, чьи установки весомо звучат и в наши дни.
В философской литературе, мемуаристике, письмах можно обнаружить также множество воспоминаний писателей, поэтов, философов, художников, музыкантов о путешествиях по России, ставших впоследствии источником их философских размышлений и вдохновения. Выборочно укажем лишь на некоторые из них. Любопытны в этом отношении фрагменты из письма Н.В. Гоголя к графу А.П. Толстому («Проездиться по России», 1847), бывшему в свое время успешным губернатором в двух областях, достаточно удаленных друг от друга – Тверской (1834– 1837) и Одесской (1837–1840).
Испытывая глубокое почтение к личности последнего, сетуя на то, что тот временно отошел от дел, и ему самому надо выбрать поприще приложения своим силам и опыту, писатель дает ему совет «проездиться по России», обращая внимание на то, как много изменений произошло в ней за последние несколько лет: никогда прежде в России не было такого разнообразия мнений, взглядов, лиц, верований. Обратим внимание на одно замечание писателя: «В десять лет внутри России столько свершается событий, сколько в другом государстве не свершится в полвека. Вы сами заметили, живя здесь за границей, что в последние два, три года даже начали выходить из неё и люди совершенно другие, не похожие ни в чём с теми, которых вы знали ещё не так давно» (Гоголь, 1994: 87). Стремительность перемен порождает и новых людей, которые часто не подозревают о существовании друг друга. Тема греха в данном письме возникает как бы попутно, вскользь, в замечании, что в России грешат люди все больше, как бы «косвенно», «от неведения», от того, что не замечают грехов своих, а не от развращенности духа (Гоголь, 1994: 89).
В данном письме прозвучал хорошо известный тезис Н.В. Гоголя, впоследствии широко тиражируемый и различным образом интерпретируемый: «Велико незнанье России посреди России…». В связи с этим необходимо прояснить сам контекст, в котором прозвучал данный вывод. В этом фрагменте письма содержится призыв очнуться и снять «куриную слепоту с глаз». Обращаясь далее к более широкой аудитории, он замечает: «Подвиг на подвиге предстоит вам на всяком шагу, а вы этого не видите. Очнитесь! Куриная слепота на глазах ваших. Не залучить вам любви к себе в душу. Не полюбить вам людей до тех пор, пока не послужите им…» Тема служения в конце письма связывается с монастырским служением: «Очнитесь! Монастырь ваш – Россия!» (Гоголь, 1994: 91–92). Служение понимается как подвиг во имя другого и одновременно во имя себя, чтобы открыть и тем самым обрести свою подлинность.
Примерно через половину столетия, уже в начале ХХ века, австрийский поэт Р.М. Рильке, путешествуя по России, был поражен тем чувствам, которые возбудило и оставило в нем это путешествие, побудившее его задуматься над многими метафизическими вопросами бытия. И его проникновенный вывод из этих странствий об особой близости России к Богу, о том, что здесь нельзя не думать о вечном, все страны граничат друг с другом, «и только Россия граничит с Богом» (Розанов, 1994: 395). Поэту открывается новое видение мира, с проникновенной глубиной встают вопросы, ранее не волновавшие душу, и возникает понимание важности жить вопросами, неспешно вглядываясь в жизнь («Письма к молодому поэту»).
Подводя итоги становления интеллектуального историзма в России, сформировавшегося в контексте развития философской публицистики в России, укажем и на статью В.В. Розанова «Русская церковь» (1905), изначально также предназначенную для иностранного читателя, желающего познакомиться с Россией, но, по словам самого писателя, все же написанную на русском языке (лишь впоследствии она была переведена на немецкий и итальянский языки) с желанием последующей публикации ее на родине мыслителя. В предисловии к статье философ прямо указывает: «Я писал как бы для русских, просто что видел и знал и что знал о Церкви, не думая нимало об иностранцах. Иностранцам надо видеть то самое, что видим мы» (Розанов, 1994: 8).
Судьбоносным для России, по мнению В.В. Розанова, безусловно, является принятие христианства из Византии в 988 г. – еще до разделения Церкви. Вслед за Византией Россия была как бы уведена в отличный от Запада «поток церковного движения», напоминающий «тихий, недоступный волнениям затон», в то время как Запад, увлекаемый и ведомый Римом, находился в движении «опасностей, поэзии, творчества и связанного со всем этим чёрным трудом неблагообразия». Отсюда – и все те различия: «Разница между тишиною и движением, между созерцанием и работою, между страдальческим терпением и активною борьбою со злом – вот что психологически и метафизически отделяет Православие от Католичества и Протестантства», а отсюда и те глубокие отличия в восприятии жизни и целях существования, что так отличают народы (Розанов, 1994: 8–9).
В заключение отметим, что русские мыслители рассматриваемого нами периода весьма основательно изучили цивилизационные основы России. Их интересовала как сама специфика нашей цивилизации, так и ее отличие от западной. Свое концептуальное выражение это нашло в названии знаменитого труда Н.Я. Данилевского «Россия и Европа». Данные отличия, на взгляд русских философов, носили психологический, культурно-исторический и, наконец, религиозный характер. Это было очевидно для всех рассмотренных нами авторов – от П.Я. Чаадаева до В.В. Розанова.
Список литературы Россия как цивилизация в отечественной философской публицистике XIX - начала ХХ века
- Гоголь Н.В. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 6. Духовная проза; Критика; Публицистика. М., 1994. 600 с.
- Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо -Романскому. СПб., 1995. 552 с.
- Кожинов В.В. История России. Век XX. М., 2016. 1040 с.
- Кожурин А.Я. Н.Я. Данилевский: жизнь и творчество. СПб., 2020. 204 с.
- Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (18721891). М., 1996. 799 с.
- Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Л., 1979. Т. 10. 713 с.
- Рильке Р.М. Ворпсведе, Огюст Роден. Письма. Стихи. М., 1971. 456 с.
- Розанов В.В. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 3. В темных религиозных лучах. М., 1994. 477 с.
- Романенко И.Б. Об определяющих началах российской государственности (по статьям И.А. Ильина 1947-1948 гг.) // Научное мнение. 2023. № 12. С. 16-21. https://doi.org/10.25807/22224378_2023_12_16.
- Романенко И.Б. Образы России в пространстве философской рефлексии // Россия - историко-культурные константы и перспективы развития детства: сборник научных трудов. СПб., 2024. С. 23-29.
- Соловьёв В.С. Сочинения: в 2 т. Т. 1. Философская публицистика. М., 1989. 689 с.
- Соловьёв В.С. Сочинения: в 2 т. Т. 2. Чтения о богочеловечестве. Философская публицистика. М., 1989. 738 с.
- Тютчев Ф.И. Сочинения: в 2 т. Т. 2. Письма. М., 1980. 732 с.
- Тютчев Ф.И. Россия и Германия // Русская идея / сост. и авт. вступит. статьи М.А. Маслин. М., 1992. С. 91-103.
- Хатунцев С.В. Константин Леонтьев: интеллектуальная биография. 1850-1874 гг. СПб., 2007. 208 с.
- Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. М., 1991. Т. 1. 798 с.