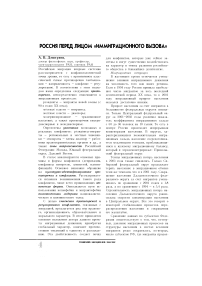Россия перед лицом "иммиграционного вызова"
Автор: Дмитриев А.В.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Россиеведение
Статья в выпуске: 1 (6), 2006 года.
Бесплатный доступ
Миграционные процессы, зоны напряженности, культурно-идентификационные противоречия, мигранты, резиденты, безопасность
Короткий адрес: https://sciup.org/14720427
IDR: 14720427
Текст статьи Россия перед лицом "иммиграционного вызова"
РОССИЯ ПЕРЕД ЛИЦОМ «ИММИГРАЦИОННОГО ВЫЗОВА»
А. В. Дмитриев, доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАН, советник РАН Российская миграция впервые системно рассматривается с конфликтологической точки зрения, то есть с применением классической схемы: противоречия глобализации —напряженность —конфликт —регулирование. В соответствии с этим подходом нами определены следующие противоречия, непосредственно относящиеся к миграционным процессам:
резиденты —мигранты новой волны (с 90-х годов XX века);
местные власти —мигранты;
местные власти —диаспоры;
модернизированное — традиционное население, а также противоречия внутри-диаспорные и междиаспорные.
Определены участники возможных и реальных конфликтов: резиденты-мигранты — региональные и местные чиновники —этнократы —члены диаспор —работники правоохранительных органов и др., а также зоны напряженности Российской Федерации: Москва, Южный федеральный округ, Дальний Восток.
В статье анализируются основные причины и формы конфликтов (депривация, конфликты интересов, ценностей, идентификаций). Основное внимание обращено на культурно-идентификационные противоречия и конфликты . Рассматривается механизм возникновения такого рода конфликтов, чаще всего принимающих этнические формы . Описываются пути использования ксенофобии и мигрантофобии политическими лидерами националистического и шовинистского толка.
С целью смягчения противоречий и регулирования конфликтов, связанных с миграцией, предлагается ряд мер правового, организационного, образовательного и морального характера. В итоге приводится основное положение автора данного проекта: миграционные движения, приобретая глобальный характер, означают противостояние тенденций к единству и расхождению. Эта двойственность создает почву для конфликтов, которые уже сейчас заметны и могут существенно воздействовать на характер и темпы развития российского общества в ближайшее десятилетие.
Миграционная ситуация
В настоящее время отмечается уменьшение влияния миграционного движения на численность того или иного региона. Если в 1994 году Россия приняла наибольшее число мигрантов за весь последний десятилетний период XX века, то в 2001 году миграционный прирост населения оказался достаточно низким.
Прирост населения за счет мигрантов в большинстве федеральных округов снизился. Только Центральный федеральный округ за 2001—2003 годы увеличил показатель коэффициента миграционного сальдо с 30 до 36 человек на 10 тысяч. То есть в центре России происходит непрерывная концентрация населения. В округах, характеризующихся положительным миграционным сальдо, население сосредоточивается медленными темпами, приближающимися к нулевому миграционному балансу, который и «продемонстрировал» Приволжский федеральный округ.
Темпы миграционных потерь населения в 2003 года также снизились. Только Сибирский федеральный округ продолжает терять население в миграционном обмене теми же темпами, что и в 2001 году. Сокращение населения Дальневосточного федерального округа за счет мигрантов уменьшилось по сравнению с 2001 годом в 1,8 раза, а по сравнению с 1994 —в 5,4 раза. Стремительность миграционных потерь населения Дальневосточного округа равносильна скорости концентрации населения в Центральном округе. Все это говорит о некоторой стабилизации процессов перераспределения населения и сокращении его масштабов.
Сравнение данных по субъектам Федерации свидетельствует о том, что, во-первых, давление миграционных процессов на структуры населения в местах вселения мигрантов резко сократилось, во-вторых, число субъектов РФ, где мигранты продол- жали оседать, уменьшилось с 66 до 42, что показывает не столько на затухание миграционного движения, сколько на концентрацию мигрантов на определенных территориях. Последние есть те территории России, которые были наиболее приближены к местам исхода. Кроме того, значимым направлением для мигрантов среднеазиатских государств является Центральный экономический район РФ. Распределение миграционных предпочтений отдельных этносов Средней Азии выглядит следующим образом: узбеки и таджики —Урал; киргизы —Сибирь (как Западная, так и Восточная); туркмены —Центр, Поволжье. Мигранты титульной национальности Республики Казахстан предпочитают переезжать на Урал, в Западную Сибирь и Поволжье.
Выше были представлены миграционные предпочтения этносов, которые испытывают в России недостаточный уровень толерантности. Титульные национальности других вновь образованных государств, к которым толерантность более выражена, также имеют свои миграционные «пристрастия». Так, белорусы, украинцы, молдаване, латыши, литовцы, эстонцы ориентированы в своих миграционных устремлениях главным образом на Центральный, Уральский, Поволжский и Западно-Сибирский экономические районы.
Таким образом, в целом можно определить регионы с наибольшей концентрацией мигрантов, переехавших в Россию во второй половине 1990-х годов из стран СНГ и Балтии. Это Центральный, Северо-Кавказский, Уральский, Поволжский, Западно-Сибирский экономические районы. Концентрация мигрантов сопровождается усилением межэтнической напряженности, которая наиболее часто возникает именно в этих регионах. Причем часто местные власти, за некоторым исключением, не замечают актуальности этой проблемы. Хотя в последнее время отмечено обострение межэтнических конфликтов не только в Краснодарском и Ставропольском краях, но и в Центральном (г. Москва), Северо-Кавказском (Кабардино-Балкария) и Поволжском (Нижегородская область) регионах.
Между тем накопленный во второй половине 1990-х годов «потенциал» конфликтогенной миграции продолжает нарастать и в новом тысячелетии.
В этом положении отметим тот факт, что, во-первых, доля русских мигрантов оказывается ниже, чем доля русских в национальной структуре России; во-вторых, каждый пятый мигрант, переехавший в Россию, этнически не соответствует сложившейся ранее национальной структуре. Данная тенденция характеризует процесс динамичной трансформации населения России, который особенно выражен на территориях, где концентрируются мигранты. Это является еще одним фактором, формирующим конфликтность миграционных процессов.
В настоящее время в стране происходит накопление потенциала, ранее не свойственного этнической структуре России. Так, в миграционном обмене с Беларусью Россия теряет не только «близкое» по этническим и ментальным параметрам население (белорусы и украинцы), но и русских, причем, в больших масштабах. Наиболее же крупным миграционным приобретением России в 2003 году стал переезд в Россию 3 тысяч армян из Армении. И это является устойчивой тенденцией в последние несколько лет. В целом в 2003 году миграция коренного населения трех республик Закавказья составила в общем миграционном сальдо титульных народов СНГ и Балтии более 70 %. В настоящее время в России продолжают оседать титульные национальности республик Закавказья, уже являющиеся объектом этно-фобного настроения жителей Российской Федерации. Еще 35 % в положительном миграционном сальдо внешней миграции со странами СНГ и Балтии составляют коренные национальности бывших республик Средней Азии. В результате Россия в миграционном обмене со странами СНГ и Балтии теряет белорусов, казахов, латышей, литовцев, замещая их русскими, армянами, грузинами, азербайджанцами, таджиками, узбеками, киргизами, туркменами. Этническое многообразие современной России становится подобным этническому многообразию Советского Союза, но при явном усилении среднеазиатской и закавказской составляющих.
Данные 2003 года показывают, что потоки мигрантов ориентированы на те же кризисные регионы, что и во второй поло- вине 1990-х годов. Продолжается концентрация мигрантов различных этнических групп на отдельных территориях. Все это становится основой для нарастания напряжения и формирования этнофобных настроений.
Территориальный аспект
К началу XXI века реальная опасность немедленного заселения ряда территорий Российской Федерации отсутствует. Ядер-ная держава, стабилизировавшая свою экономику и установившая более или менее миролюбивые отношения с соседями, пользуется некоторой неприкосновенностью своих границ. Эта неприкосновенность носит временный характер, она уже в ближайшие десятилетия, если не годы, подвергнется испытанию. Вряд ли сложится положение, считающееся классическим, когда армии соседних многонаселенных стран (Китай, Иран, республики Средней Азии и Закавказья) вторгнутся на территорию России с целью отторжения ее территорий в свою пользу. Однако в довольно близкой исторической перспективе ситуация изменится как в области демографии, так и в связанной с ней безопасности. Катастрофическое уменьшение численности населения к востоку от Уральских гор делает огромную территорию беззащитной от бесконтрольного ее заселения миллионами иммигрантов со стороны Китая без каких-либо особых затруднений.
Другая опасность возникает со стороны Средней Азии, точнее некоторых стран СНГ, у которых население постоянно растет, встречаясь с недостатком продовольствия и воды. К тому же исламские экстремисты постоянно напоминают о прошлой колонизации со стороны царской, а затем Советской России, требуя сатисфакции. Попытки «откупиться» от правительств этих стран путем выдвижения фантастических проектов поворота на юг сибирских рек вряд ли разрешат постепенно назревающий кризис.
В отличие от большинства российских исследователей, сторонников так называемой политкорректности, западные специалисты откровенно отмечают дрейф России к катастрофе. В частности, ее попытки сохранить свое влияние в Средней Азии считаются несерьезным предприятием. «Впол- не вероятно, —пишет П. Бьюкенен, —не Россия снова двинется на юг, присоединяя к себе бывшие советские республики, а исламские иммигранты устремятся на юг при поддержке, быть может, исламских воинов, отхватывая от России внушительные куски —например Чечню. Союзник России на Кавказе, христианская Армения, давно присоединилась к клубу “вымирающих” наций, в который входят Россия, Латвия, Болгария и Испания — страны с самым низким уровнем рождаемости»1.
Этнический аспект
Миграция, как правило, порождает негативные тенденции в развитии межнациональных отношений, связанные с тем, что этнические общности неизбежно начинают конкурировать между собой в областях занятости, проживания и общения. На фоне неблагополучных экономических условий, сокращения возможностей в удовлетворении элементарных потребностей мигранты одновременно сталкиваются с потерей своих прошлых статусных характеристик. В любом случае у большинства приехавших на новое место формируются по отношению к новой среде негативное, а иногда и враждебное отношение.
В оценке тех или иных последствий миграции среди российских исследователей известны разногласия. Одни считают, что любое расширение межнационального общения может рассматриваться как положительное явление, способствующее возникновению культур и утверждению интернационализированных образцов поведения. Другие исходят из того, что расширение межнациональных контактов лишь тогда ведет к оптимальному развитию межнациональных отношений, когда основывается на добровольности и не сопровождается возникновением неконтролируемых ситуаций.
Первая точка зрения опирается на представление об этносе как довольно статичной совокупности не связанных или слабо связанных друг с другом семей или индивидов. Действительно, при таком подходе оказывается, что чем шире контакты с представителями других народов, тем легче люди к ним привыкают, усваивают язык другого этноса и (или) язык межнационального общения, тем легче расстают- ся с элементами собственной культуры. С этой точки зрения расширение межнациональных контактов если и имеет какие-то негативные последствия, то лишь применительно к отдельным индивидам и никак не распространяется на весь этнос или его слои. В противоположной концепции этнос рассматривается как сложная самоорганизующаяся система, для которой потребность в самосохранении есть неотъемлемое свойство: устойчивость этноса обусловливается совокупностью тесных межличностных связей. Пока система сохраняет внутреннюю целостность, любое воздействие на нее, преднамеренное или непреднамеренное, могущее нарушить эту целостность, ведет к противодействию. Последнее усиливается, когда представители контактирующих национальных групп оказываются в конкурентных отношениях по поводу каких-либо жизненно важных ценностей. Причем в деятельность системы обычно вовлекаются люди, которые сами по себе в конкурентные отношения не включены и вообще не испытывают особых неудобств от внешних воздействий на этнос.
Криминогенность
Нынешняя нелегальная миграция вообще отличается от своей классической формы. Если раньше беженцы и экономические мигранты тайным или другим способом пересекали границу, надеясь закрепиться и найти работу и жилье, то ныне обычен провоз иммигрантов преступными организациями. К тому же реальным воплощением угрозы для резидентов является широкое распространение криминала в среде иммигрантов. Проблема становится еще более острой в связи с тем, что преступность среди детей ранее прибывших мигрантов не менее высока, то есть первое поколение было менее склонно к тем или иным видам правонарушений. Примерно такая же картина наблюдается и в странах ЕС. Исследования показывают, что иммигранты в большей степени, чем резиденты, вовлечены в криминальную деятельность, причем ставшее обычным объяснение такого феномена не подтвердилось. Наиболее распространенная до этого точка зрения обывателей, да и самих мигрантов, сводилась к следующему: полиция, предприниматели, местные власти, само постоянно проживающее население унижают, обирают, притесняют мигрантов и последним ничего не остается, как заниматься недозволенными делами.
По-видимому, поиск основной причины возрастающей преступности необходимо производить среди самих мигрантов. Так, после известных ограничений в области вербовки рабочей силы и усиления государственного контроля за потоками переселенцев решимость переехать, несмотря на эти препоны, прослеживается у людей, склонных к риску и нарушениям закона. При нелегальной миграции происходит естественный отбор, где победителями оказываются люди, склонные к правонарушениям. К тому же на новом месте жительства они с трудом интегрируются в местное сообщество, то есть живут по обычаям, нормам и правилам, разделяемым в группах переселенцев. Впрочем, причин преступности мигрантов достаточно много и каждая этномиграционная группа требует специального рассмотрения.
Экономический аспект
Конфликтогенность трудовой миграции отличается тем, что для России характерен одновременно высокий уровень как безработицы, так и нехватки рабочей силы. Во многих регионах Севера, Восточной Сибири, Дальнего Востока и некоторых других недостаток рабочих в ряде отраслей тормозит экономическое развитие. В Москве постоянно приветствуется приток строителей, водителей транспорта, работников быта. В таком случае относительно дешевая рабочая сила мигрантов, не платящих налогов, профсоюзных взносов, не обладающих какими-либо социальными привилегиями, серьезно теснят своих конкурентов из местных жителей. Конкуренция со стороны мигрантов и технологический прогресс серьезно воздействуют на рынок рабочей силы: под угрозу ставятся выплаты денежных пособий по больничным, денежные пособия для детей, защита от необоснованного увольнения, пятидневная рабочая неделя, отпуск и многое другое, что входит в социальную составляющую экономики России. Почти по всей стране реальная заработная плата падает, а гарантированная занятость сменяется системой найма по краткосроч- ным контрактам. Фактически возрождается система труда поденщиков.
Как результат, в последние годы многие коренные жители были выброшены в ряды безработных или на более низкооплачиваемые места в сфере услуг. Россия уже в 1990-е годы прошлого века стала люмпенизироваться: количество бездомных и безработных достигло миллионов. Другой вид российских люмпенов —мужчины трудоспособного возраста, которые в прошлом потеряли работу, но не хотят трудоустраиваться, не обучаются, не имеют права на пенсию, то есть живут без видимого источника существования. Эти люди хотят хорошо жить, но страдают алкоголизмом и наркоманией. Они агрессивны, ищут виновных в своем положении. Таковыми оказываются «экономические» конкуренты из других стран и регионов.
Одновременно среди местного населения идет обособление богатых, которые концентрируются на определенной территории, нанимают многочисленную охрану. Допуск мигрантов на эти территории исключен, если не считать многоквартирные доли в некоторых районах городов, сплошь закупленные диаспорами и заселенные этническими мигрантами. Появление привилегированных иммиграционных групп, их отчуждение от остальных также составляют особенность процесса поляризации на территории Российской Федерации.
Проблемы взаимоотношений мигрантов и резидентов
Конфликты между местным населением и мигрантами становятся повсеместным явлением. Наиболее острые случаи сопровождаются групповым насилием, как это происходит на рынках Москвы. Напряженность, приводящая к подобного рода столкновениям, может проявляться и на индивидуальной основе, что объясняет вербальную и физическую агрессию по отношению к отдельным лицам со стороны постоянно проживающего населения (резидентов).
Милиция и местная власть к подобного рода инцидентам не относятся с должной серьезностью, не обращая, например, внимания на приставание молодых людей к неграм, азербайджанцам, вьетнамцам и прочим представителям миграции и не разъясняя ни населению, ни мигрантам их прав и обязанностей.
В сложившейся ситуации мигранты воспринимаются как виновники всех трудностей, как нежелательные элементы. В то же время сами они крайне недовольны своим положением, причем как на родине, так и на новом месте проживания. Подобная конфликтогенность характерна для многих стран, включая Российскую Федерацию.
Поскольку после некоторого спада в 2001—2003 годах ожидается усиление потока миграции на территории России, который может составить от 1,5 до 2,4 млн человек в год только внешних мигрантов, отношения резидентов и приезжающих в ближайшие годы резко обострятся.
Особенно тревожным станет миграционный прирост титульных национальностей Закавказья. Во всех российских национальных республиках в 90-е годы прошлого века он был только положительным. Вторыми в миграционном сальдо на территории российских республик будут представители среднеазиатских республик.
Своеобразной землей обетованной для мигрантов стали, например, Ростовская и Астраханская области, Ставропольский и Краснодарский края, которые являются одними из наиболее привлекательных регионов не только для вынужденных русскоязычных переселенцев, но и для жителей близлежащих трудоизбыточных регионов, в частности коренного населения республик Северного Кавказа и Закавказья. Именно эта часть мигрантов породила межнациональную напряженность и конфликты на всей территории названных субъектов Федерации.
Часть этнических групп переселенцев имеет более высокий уровень жизни и другой стиль жизни, что вызывает острое недовольство коренного населения. В последние годы во многие области России активно мигрируют жители из Средней Азии, надеющиеся при помощи родственников закрепиться здесь на постоянное место жительства.
Специфичной, ввиду наличия больших финансовых, культурных и информационных ресурсов, является ситуация в Москве. Фактически город превратился в главный межрегиональный центр межэтнических процессов на всем евразийском про- странстве. Ряд экспертных опросов показал, что в столице этническая и конфессиональная структура постоянно усложняется. В городе существует собственный специфический общественно-политический и культурный микроклимат, влияющий на общее мироощущение, образ жизни, особые, отличные от других регионов стереотипы поведения населения. Москва все ярче и определеннее проявляет себя как один из международных финансовых и торговых центров. Через нее проходит большинство российских финансовых потоков, а также немалая часть финансовых и товарных потоков государств СНГ. Это влияет на динамику развития как ее социальной, так и этнической структуры, порождает новую конфигурацию интересов, нередко приобретающих этнический характер. Многие москвичи видят в беженцах и переселенцах виновников своего ухудшающегося социально-экономического положения, конкурентов на рынке жилья и труда. Национальное самочувствие диаспор во многом определяется и развитием событий на их родине, а также характером отношений последней с Москвой и Россией.
В Москве существуют политические силы, готовые использовать этнические факторы в своих интересах. Возрастание взаимной неприязни, конкуренции во всех сферах жизни, замкнутость представителей тех или иных диаспор, возникновение организованных преступных группировок по этническим признакам и соперничество, в том числе вооруженные столкновения, —все это характерные особенности столичной жизни.
Постепенное освоение прибывающими мигрантами — представителями национальных диаспор городского жилого фонда, причем в лучших жилых массивах элитных районов и домах, при одновременном вытеснении коренных москвичей (в основном русских, славян) на городские окраины меняет демографическую карту города, создает атмосферу нетерпимости, неприязни к «новым москвичам».
Переход органов городского и государственного управления, престижных должностей и профессий, средств массовой коммуникации, финансовых средств в руки мигрантов нерусской национальности при одновременном отведении коренному населению Москвы роли обслуживающего персонала, низкоквалифицированных и низкооплачиваемых рабочих и служащих (часто при наличии высшего образования), обеспечивающих комфортные условия существования для «новых москвичей», заселивших столицу в последние 5 —10 лет, но уже ставших полновластными хозяевами, не остается незамеченным отечественными и зарубежными исследователями.
Факты неприязненного отношения москвичей к людям других национальностей, приезжающих в Москву на работу и постоянное место жительства, в 1994 году отмечали 30 %, а в 1999 —уже 36 % респондентов. Об известных им фактах неприязненного отношения к жителям других республик бывшего Союза, занимающихся бизнесом, торговлей в городе, в эти годы сообщили подавляющее число экспертов2.
Как показывают данные опроса, неприязнь респондентов чаще всего адресована к выходцам из кавказского региона: азербайджанцам, армянам, грузинам, чеченцам. За период 1994 —1999 годов доля респондентов, неприязненно относящихся к «кавказцам», выросла с 18 до 28 % (таблица).
Дальнейший рост кавказофобии фик-
Отношение к людям других национальностей
(в % от числа опрошенных, ИСПИ РАН, № - 850)
Есть ли национальности, к которым
Вы испытываете неприязнь?
Да 2735
Нет 4141
Затрудняюсь ответить 2323
Если «да», то к кому именно?
К представителям
«кавказских национальностей»
(армяне, грузины и др.) 1828
К евреям 22
К представителям среднеазиатских национальностей 11
К представителям других национальностей 01
сируется постоянно. Среди молодежи этот показатель составил немного больше — 56 %3. После терактов в столице между москвичами и «кавказцами» пролегла глубокая трещина.
Эксперты считают, что резиденты не могут позволить себе просто наблюдать и обсуждать мигрантов в рамками своего сообщества; они должны осознавать и собственные недостатки, приспосабливаться к новому контексту, осмысливать новые реальности и ценности. Власти, которые в разной степени представляют их интересы, призваны отказаться от агрессивной реакции на поведение мигрантов, поощрять равенство, призывать к толерантности, но при этом возглавлять борьбу против нищеты собственного и приезжего населения и одновременно жестко реагировать на любые нарушения закона (отказ от регистрации и уплаты налогов, насильственный захват земель и другие виды криминального поведения).
Ряд средств массовой информации легко будоражат как общественное мнение собственной страны, так и Запада. Обычные меры властей по наведению порядка в миграционных делах воспринимаются ими как «этнические чистки», «фашизм», «национализм» и т. д. СМИ могут становиться и адвокатами курса какой-либо группы, участвующей в конфликте.
«Родная страна» мигрантов в случае возникновения напряженности обычно выражает определенное беспокойство по поводу своих «детей», которые, как правило, в массовом порядке не регистрируются и не платят налоги, что позволяет направлять финансовые потоки в сторону направляющего мигрантов государства. Некоторые действия российских властей по контролю нелегальной миграции вызывают обеспокоенность со стороны правящих кругов Азербайджана, Грузии, Таджикистана и других стран.
Проблема безопасности
Среди конфликтогенных миграционных регионов России (Центральный, Дальневосточный и Южный федеральные округа) наибольшую угрозу для безопасности страны представляет собой Северный Кавказ. Этот регион, обладая большой привлекательностью для переселенцев из других стран и регионов Российской Федерации, стал, наряду с Москвой, основным центром напряжения. С учетом ряда особенностей региона, в том числе этнической, передвижение населения сопровождается нарастанием экономических трудностей и, как следствие, усилением ксенофобий и мигрантофобий.
Еще в 1980-х годах происходило изменение демографической ситуации, в результате которого преобладающим, а в некоторых автономиях и доминирующим стало титульное население. В этот период активизировались процессы по замещению русского этноса, в том числе и в так называемых русских районах (Кизлярский и Тару-мовский в Дагестане, Наурский и Шелковской в Чечне, Сунженский в Ингушетии, Прохладненский в Северной Осетии, Зе-ленчукский в Карачаево-Черкесии). Можно предположить, что политика устранения русского компонента из мест традиционного расселения была обусловлена задачами расширения «жизненного пространства» для титульной нации.
Районы массового исхода русских в республиках представляют собой зоны риска для России, угрозу целостности Российского государства, индикаторы межэтнической напряженности, свидетельствующие о распространении националистических настроений и действий, экстремизма и крайних форм его проявления. Результатом этого процесса стало ослабление геополитического влияния России в республиках Северного Кавказа.
С другой стороны, в условиях в целом неблагоприятной демографической ситуации (отрицательного естественного прироста) мигранты являются важным источником пополнения трудового потенциала региона. Поток мигрантов, прибывающих в регион, отличается не только благоприятной половозрастной структурой, но и приемлемыми качественными характеристиками трудовых ресурсов, что можно использовать для становления и развития отдельных отраслей хозяйства. Однако нынешнее состояние экономики не позволяет эффективно использовать формирующийся таким образом кадровый потенциал и вынуждает большинство мигрантов осваивать новые виды деятельности —торгово- посреднический бизнес, занятие подсобным хозяйством и т. п.
Происходят активные процессы формирования диаспор, сначала нетитульных этносов (армян, греков, турок-месхетинцев и др.), а позднее и титульных народов национальных республик округа (чеченская, ингушская, народов Дагестана), что является одной из особенностей динамики миграционной ситуации в Южном федеральном округе. Диаспоры новейшего времени отличаются интенсивной деятельностью по поддержке территориальных перемещений «своих» этносов.
Ныне образовались многолюдные диаспоры в равнинном Предкавказье, в других районах России, в странах ближнего зарубежья. В последнее десятилетие более активно происходит переселение в «старорусские» районы, изменяя при этом этническую структуру населения в них. «Старорусские» районы, будучи долгое время буферной зоной, впитывали в себя избытки демографических ресурсов горных районов. Поэтому миграционные потоки титульных народов северокавказских республик устремились, с одной стороны, в города территориальных национальных образований, а с другой —в соседние регионы Северного Кавказа, первоначально ориентируясь преимущественно на сельскую местность.
Анализ динамики демографических и социально-экономических процессов позволяет прогнозировать активизацию в перспективе территориальной экспансии многих титульных народов республик Северного Кавказа в соседние регионы. Именно поэтому миграция в Южном федеральном округе считается одной из угроз национальной безопасности страны.
До последних лет для указанного региона было характерно нарастание противоречий между повышением значимости для России внешней миграции и накоплением недовольства миграцией со стороны населения. Перед властями возникла проблема, решение которой потребует целого комплекса политических, правовых, финансовых, организационных мер, согласованных действий федеральных, региональных, местных органов власти.
Поскольку Юг России вынужден по- треблять избыточную, то есть не востребованную на родине, часть трудового потенциала сопредельных и даже отдаленных государств, то оказалось, что оседающие здесь этнические выходцы из среднеазиатских и закавказских республик, как правило, отличаются низким уровнем образования и отсутствием необходимой квалификации. Они предпочитают сельскую местность, где заняты неквалифицированным трудом и строительством. Большинство из них устремляются в торговлю (местные базары). Этнический признак такого замещения легко просматривается. Все это происходит в условиях малоземелья и высокой безработицы, характерных для сельских районов этого региона.
Наиболее негативное воздействие на внутриполитическую ситуацию оказывает нелегальная миграция, так как она усиливает рост коррупции, ведет к принятию неадекватных решений и порождает угрозу потери контроля над ситуацией. Этот вид миграции усугубляет проблемы социальной сферы, ухудшая, в частности, санитарно-эпидемиологическую обстановку, способствует сохранению и расширению теневой занятости, осложняет криминогенную ситуацию.
Среда переселенцев, включая и легальных мигрантов, конфликтогенна. Переселенцы годами не получают от государства практически никакой помощи, все же рассчитывая на нее.
В этой ситуации, несмотря на кажущуюся стабильность, могут обостриться межконфессиональные отношения, что и происходит почти во всех регионах мира. На Юге России, в частности, в ее мусульманских регионах уже наблюдаются напряженные элементы озлобленности, антирусских настроений. Несмотря на принимаемые меры, с ваххабизмом не удается покончить, он по-прежнему распространяется.
Подобные процессы, исходившие в последние десятилетия с Северного Кавказа, представляются многими как угроза безопасности Российского государства, что приводит к росту антикавказских настроений в самом российском обществе. Часто эти настроения подпитываются мнением о необходимости борьбы с так называемым исламским терроризмом, которая у многих людей, к сожалению, ассоциируется с борьбой против ислама. И сегодня проблема этноконфессиональной совместимости выступает в качестве нового фактора. Межэтнические столкновения в Краснодарском, Ставропольском краях, Республике Калмыкия, происшедшие в последнее время, в нынешних условиях часто приобретают конфессиональные признаки.
Поскольку решить данную проблему репрессивными мерами невозможно, требуется разработка государственной программы долгосрочных действий властей на всех уровнях.
В целом угрозы дезинтеграции, ослабления Российского государства, вызванные политическим, экономическим сепаратизмом, преодолены. Много сделано по правовому разрешению конфликтов, по приведению местного законодательства в соответствие с федеральным. Очевидно, сейчас настал такой этап, когда необходимо более детальное федеральное законодательство, регулирующие миграционные процессы.
Проблема в том, что неопределенность ряда положений существующих законов дает возможность трактовать их двояко. В частности, власти субъектов Федерации сталкиваются с необходимостью самостоятельно решать некоторые вопросы, связанные с регулированием миграции внутри «своего» региона.
Нерегулируемая и нелегальная миграция стала фактором, оказывающим осложняющее влияние на общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в округе. Мигранты, как правило, стремятся расселяться в местностях с благоприятными природно-климатическими условиями и, как следствие, с высокой плотностью населения. Их привлекает Черноморское побережье Краснодарского края, Кавказские Минеральные Воды.
Приток мигрантов приводит к обострению конкуренции на рынке труда, снижению уровня жизни местного населения. Значительные перегрузки испытывает социальная инфраструктура Краснодарского, Ставропольского краев, Волгоградской, Астраханской областей. Все это ухудшает отношения между мигрантами и местным населением.
Одним из последствий нерегулируемых миграционных потоков стало изменение в некоторых районах Юга России исторически сложившегося этнического баланса населения. В Краснодарском крае численность армянского населения в настоящее время выросла на одну треть и сопровождается ростом экономических и политических требований со стороны мигрантов. Местные власти опасаются, что это может обернуться созданием национально-территориальной армянской автономии. Потенциальную угрозу территориальной целостности России представляет проблема возрастающей численности и некоторых других диаспор. В результате нерегулируемой миграции численность турок-месхетинцев в Краснодарском крае составила около 20 тыс., в Ростовской области —около 17 тыс. человек. В перспективе эта диаспора при определенных обстоятельствах может быть использована в целях провоцирования нового национально-территориального конфликта на Юге России.
Все же наиболее серьезной угрозой национальной безопасности следует считать нелегальную миграцию. В пределах федерального округа она приобрела заметные черты динамичной и тщательно организованной преступной деятельности транснациональных криминальных групп с активным участием официально действующих коммерческих фирм России и стран СНГ. Сохраняется тенденция использования российской территории для переправки незаконных мигрантов из государств Ближнего, Среднего Востока, Центральной, Юго-Восточной Азии и Африки в государства Западной Европы. Этот вид миграции, по мнению многих экспертов, является одним из наиболее действенных каналов проникновения международных террористов на интересующие их территории.
Эмиграция
Вне рассмотрения не может остаться другой, не менее важный, аспект проблемы — эмиграция российского населения. Конфликтогенность этого вида миграции очевидна. По-видимому, данную проблему следует рассматривать особо, то есть на основе самостоятельных конкретных исследований. Наметим лишь основные черты, присущие конфликтогенности эмиграции. Их можно сгруппировать, исходя как из позитивных, так и из негативных оценок. Первые довольно легко определить в гуманитарном дискурсе (нахождение убежища, получение работы, воссоединение с родственниками, повышение уровня жизни и статуса и т. д.). С негативными оценками дело обстоит сложнее, поскольку идеологический пресс со стороны СМИ и либерально настроенных экспертов воздействует на характер исследований в этой области самым пагубным образом.
Как бы то ни было, некоторые негативные оценки присутствуют. Прежде всего они касаются изменения этнического состава России в результате как эмиграции, так и иммиграции. С 1990-х годов из России в массовом порядке стали выезжать немцы. Тогда руководство и на федеральном и на региональном уровнях, занятое своими проблемами, которые считало первоочередными (удержание случайно попавшей в руки власти, обогащение, военная акция в Чечне и пр.), не обратило должного внимания ни на требование немцев на автономию, ни на трактовку проблемы в СМИ, ни на еще возможные соглашения с Германией.
Значительный отток наблюдался и среди евреев, которые стали выезжать не только в Израиль и США, но и в европейские страны, в частности в Германию. В числе отъезжающих оказались и русские, которые ныне уже заняли первое место, оттеснив упомянутые выше этносы. Постоянно выезжают также представители закавказских и северокавказских народов.
Этнический состав эмигрантов, самым разительным образом отличаясь от иммигрантского, сказывается на состоянии стабильности в России усилием напряженнос-тии .
В региональном измерении ситуация также меняется. В число эмигрантов входят не только жители Москвы, Санкт-Петербурга (ранее они абсолютно преобладали), но и других мест страны.
В половозрастном отношении оценка такова: уезжают в основном молодые, «продуктивные» в демографическом смысле люди, что, конечно, негативно отражается на ситуации в области рождаемости в Российской Федерации. В экономическом измерении потери не менее масштабны.
Так, ущерб России, по данным международных организаций, может составлять до 50 млрд дол. ежегодно. К тому же потери страны от «утечки мозгов» составляют гораздо большую сумму, чем приток зарубежных инвестиций.
Последствия эмиграции таковы:
-
1) ослабление экономического и научнотехнического уровня страны;
-
2) существенное снижение демографического потенциала;
-
3) упущенная выгода, равная ожидаемому вкладу уезжающих на постоянное место жительства в социально-экономическое развитие страны;
-
4) не возмещенные затраты государства на воспитание и обучение специалиста-эмигранта;
-
5) ослабление безопасности государства, в том числе и военной;
-
6) ослабление, с учетом квалификации и культуры эмигрантов, толерантности российского населения.
Все сказанное заставляет в очередной раз задуматься о мерах по регулированию как иммиграционных, так и эмиграционных потоков с учетом того непреложного факта, что процессы во многом носят объективный характер. В этих условиях россиянам можно поступить двояким образом. Первое —добиться приглашения из-за рубежа, получить визу, уволиться, продать квартиру какому-то богатому и малознакомому приезжему в Москву, и, оставив друзей, стать через некоторое время гражданином более спокойной страны. Другая альтернатива —остаться в своем доме, продолжать трудиться, получая несколько тысяч рублей в месяц и стараясь хоть как-то улучшить свою судьбу и жизнь своих сограждан.
Предварительные выводы
При встречающихся негативных оценках направленности миграционных потоков не следует, по-видимому, отвергать того, что в перспективе российская миграция будет сокращать дистанцию между народами, она призвана воспитывать взаимную терпимость у всех соприкасающихся этносов.
Анализ принципиальных изменений в миграции на территории РФ может сводиться только к оценке направленности и насыщенности миграционных потоков. Одним из результатов миграции, который требует приоритетного изучения, является активизация деятельности этнических диаспор как образующихся, так и давно сложившихся. Наряду с развитием трудовых, культурных и прочих связей они играют определенную роль в нелегальной экономике стран-реципиентов, поддерживают те или иные криминальные группы соотечественников. Возможно, такой вывод намеренно обострен, но достаточно реалистичен. Он также поощряет исследователя не только к изучению проблемы толерантности, к чему его призывают руководители всякого рода фондов, но и к определению альтернативы все возрастающей преступности в среде мигрантов.
Социологи и психологи, в том числе и отечественные, обратили внимание на личностные характеристики мигрантов и обнаружили, что множество людей вообще отвергают свою принадлежность к каким-либо группам внутри социальной структуры, не приемлют господствующие в обществе нормы и генерируют по отношению к другим социальным группам чувство враждебности и собственного бессилия. Такие группы весьма устойчивы, и от них не смогла полностью избавиться ни одна из известных социально-политических систем.
Все же личностный анализ имеет, пожалуй, второстепенное значение. Он, безусловно, важен при изучении поведения единичного, индивидуального, но имеет тенденцию к превращению в общее, групповое, то есть становится доступным для понимания и объяснения лишь при анализе социальных общностей. В любом случае система основных категорий при изучении миграции оказывается тождественной тому аппарату, которым руководствуются теоретики социальной структуры, а это, в свою очередь, предрешает многие ответы на важные вопросы и о субъектах конфликта, и о направленности их действий.
Конфликтогенность миграции до сих пор не является специальным объектом изучения со стороны исследователей. Заполнившие всякого рода сборники статьи довольно редко негативно оценивают ситуацию: как правило, они отражают благо- стное отношение их авторов к такому неоднозначному процессу, как миграция.
Оставив в стороне роль теории столкновения цивилизаций как составляющей при изучении миграции, подчеркнем явную опасность со стороны неконтролируемой миграции. В геополитическом плане из противоречий, по-прежнему раздирающих мир, она выбирается в качестве основного орудия при противостоянии «цивильно продвинутых белых мегаполисов люмпенскому отсталому цветному гетто».
Объективные процессы, связанные с интеграцией глобализирующегося мира, очевидны. Они основаны на экономических и информационных требованиях единства мирового пространства. Поэтому, признав существование негативных (наряду с позитивными) черт миграции, все же следует смягчить их последствия.
В заключение отметим, что конфликт есть необходимое условие самоопределения как групп, так и отдельных личностей. Никакая оптимизация законодательства и правоприменительных практик не приведет к устранению конфликтов ввиду фундаментального многообразия интересов и способов поведения их носителей. Противоречия субъектов действия, как известно, неизбежны. В случае настойчивых попыток их смягчения конфликт приобретает скрытые формы, проявляясь неожиданно и часто разрушительно. Для того чтобы конфликт был достаточно управляем, он маскируется. Именно поэтому распространение идеологии толерантности можно считать лишь показателем совершенствования техник управления конфликтами.
Исследовательские задачи
Наиболее эффективным способом управления конфликтами является их объективизация и лигитимизация в качестве основания для любых социальных отношений. Регулирование российских конфликтов, связанных с миграцией, разумеется, пока происходит удовлетворительно. Опасность прогнозирования такого регулирования состоит в трудности определения точки, после прохождения которой «управляемые» конфликты становятся неуправляемыми. В этой связи требуется серьезная исследовательская работа со стороны не только миграционных служб, которые с ней могут и не справиться, но и представителей центральных и региональных научных школ, которые начинают формироваться.
При исследовании проблем конфлик-тогенности становится необходимым анализ не только ее объективных, но и субъективных факторов. Это, в частности, пробелы в законодательной практике; мифологемы, свойственные массам постоянного населения, а также отсутствие политической воли к решению проблемы интеграции.
Констатируя неготовность как мигрантов, так и принимающего сообщества к интеграции, предложим некоторые меры по смягчению напряженности между ними:
-
1) создание общероссийских и региональных банков данных трудовых вакансий для мигрантов;
-
2) совершенствование законодательства, регулирующего миграцию;
-
3) миграционная амнистия для легальных мигрантов, желающих получить российское гражданство;
-
4) организация учебы навыкам толерантности в совместных группах детей мигрантов и резидентов;
-
5) координация деятельности НКА в условиях по интеграции мигрантов;
-
6) «сбалансированность» политики СМИ в освещении проблем миграции;
-
7) мониторинг общественного мнения по отношению к мигрантам как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Список литературы Россия перед лицом "иммиграционного вызова"
- Бьюкенен Патрик Дж. Смерть запада/Патрик Дж. Бьюкенен. М., 2003. С. 148.
- Иванов В. Н. Человек, культура, город/В. Н. Иванов, В. К. Сергеев. М., 2002. С. 125.