Россия университетская
Автор: Липкович Эдуард Иосифович
Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday
Рубрика: Точка зрения
Статья в выпуске: 5, 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается ход реформирования высшего образования в стране. Освещаются проблемы и противоречия в этой сфере. Анализируется необходимость развития элитных университетов и нового подхода к подготовке менеджеров. Раскрывается фундаментальное значение системы «образование - культура» для настоящего и будущего России. Обосновывается возросшая роль математического моделирования гиперсистем в решении задач прогнозирования социально-экономических процессов и управления ими.
Образование, образование - культура, университет, институт, элитное образование, мораль, нравственность, лица, принимающие решения, менеджмент, вероятностный процесс, ручное управление, личностные качества
Короткий адрес: https://sciup.org/148320919
IDR: 148320919 | УДК: 37
Текст научной статьи Россия университетская
Была организована и система высшего музыкального образования в виде консерваторий, многие из которых комплектовали музыкальные театры и симфонические оркестры в крупных городах страны. Примерно тогда же в большинстве республиканских и областных центров были открыты медицинские, педагогические и учительские институты. Последний аккорд в этой симфонии высшего образования – создание институтов бытового обслуживания. Из российских вузов, которые считались одними из лучших в мире, а образование – самым лучшим, вышло множество выдающихся людей: организаторов производства (как теперь говорят, топ-менеджеров), врачей, ученых, деятелей культуры, творцов аэрокосмической техники, военачальников.
И вдруг в наше время началась массовая реорганизация институтов, а также превращение их в университеты, на худой конец – в академии. Этот шквал был настолько силен, что в университеты превращались чуть ли не четырехгодичные учительские институты.
Институты сервиса также потянуло в университеты. А что это за институты? Они готовили специалистов по пошиву одежды и обуви, ремонту телевизоров и другого бытового оборудования, менеджеров курортного отдыха, а попутно – экономистов.
Посмотрим на западного человека, закончившего университет. Болонья – город Италии. Поэтому есть смысл и пример привести из Италии. Был такой блистательный богослов Фома Аквинский, родившийся в Неаполитанском королевстве и живший в 1225–1274 годы. Он учился в Неаполе в 1239–1244 годах, затем окончил Парижский (1245–1248) и Кельнский (1248– 1252) университеты. Получив блестящее образование, работал в Париже, Риме, Неаполе [1]. Это говорит о том, что уже в ХIII веке в Европе были первоклассные университеты, которые продолжали совершенствовать свое мастерство в подготовке кадров многие столетия. Да и сейчас они готовят интеллектуалов.
А что было в ХIII веке в России, точнее, на территории нынешней
России (если кто помнит, конечно)? В то время университетов в Европе было относительно много. В России же в ХХ веке, как уже отмечалось, было 37 университетов, а в ХIII веке – ни одного.
В Европе университеты были привычны и уважаемы. Во что же их преобразовывать? Да и у кого бы поднялась рука преобразовывать, например, Оксфорд и Кембридж или Ягеллонский, Краковский, Пражский университеты (кроме разве что отечественных министров-реформаторов).
И вот наши деятели от образования и науки, закончившие, как правило, нынешние престижные университеты (нередко и зарубежные), кинулись преобразовывать отечественные технологические вузы в университеты.
Какова же цель такой серьезной трансформации высшего образования, прямо скажем, ни на чем не основанной? Что мы построили или собираемся построить на обломках доказавших свою жизненность институтов?
В последнее время появился опыт по объединению четырех-пяти вузов в единый университет. На практике же оказалось, что объединение – это никакой не университет, за исключением наименования. На наш взгляд, это даже оскорбительно для университета: 50 тысяч студентов разных специальностей, самой разной культуры, самых разных целевых жизненных установок, взглядов на образование, да еще обучавшихся в удаленных друг от друга зданиях, даже в разных городах. Когда это все переплавится? За пять лет вряд ли. Тогда через сколько выпусков?
Примеры реорганизации пединститутов в классические университеты как раз и подтверждают это положение. И через двадцать лет новый реорганизованный университет зачастую еще не университет. Многие выпускники стыдятся своего «прародителя» и на вопрос, что окончил, – просто молчат в ответ.
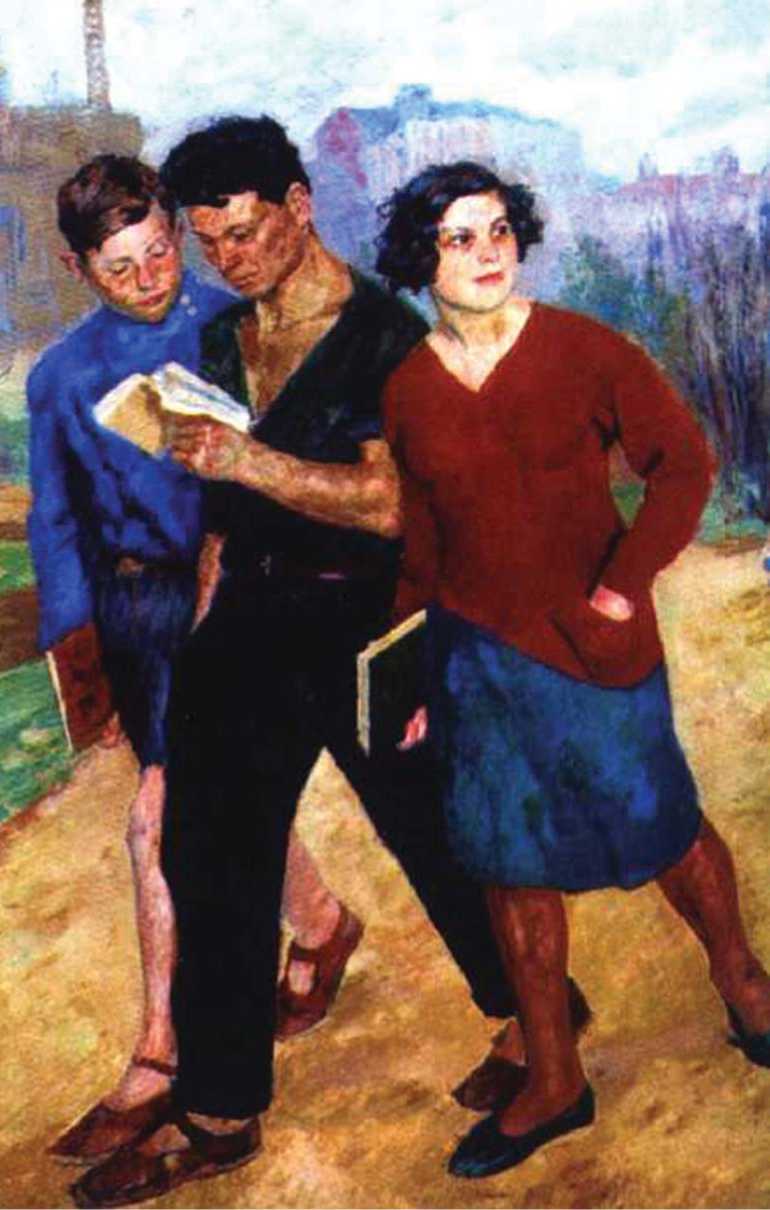
Б.В. Иогансон. Рабфак идет (Вузовцы)
Тогда зачем перемешивать несколько разных вузов? Ясны две вещи: уровень реального университета в составе объединения будет занижен, а введенные в состав нового вуза специализированные институты также в определенной степени будут «прижаты к земле». Зачем? А для того, видимо, чтобы сократить количество бюджетополучателей (по крайней мере это наблюдаемая причина). Едва ли это равноценная оплата за столь деструктивные меры…
Не понятно, где взять столько преподавателей университетского уровня? А если их нет, кого будут готовить новые университеты?
Итак, в дореформенной России (СССР) сложилась вполне адекватная система образования. Но сейчас вузы, готовившие специалистов для машиностроения, сельского хозяйства, других отраслей и подотраслей, почти исчезли. Система среднего специального образования – бывшие техникумы, готовившие мастеров и бригадиров (точнее, выпускники работали на этих должностях), руководителей и организаторов нижнего звена, – практически тоже ликвидирована. Высшее профессиональное образование – институты и академии, готовившие специалистов-профессионалов высшей квалификации в области технологического сопровождения производств всех уровней, – уже в прошлом. Сейчас их выпускники в основном какие-то бакалавры, магистры (помните из юности: «великие магистры» – маги, чародеи, руководители иезуитских орденов) – в общем, это сугубо не наш блок понятий. Даже если мы сейчас любим ссылаться на наши российские истоки, но у нас в России таковых званий (или профессий?), кажется, не было.
Не отклоняясь от основной темы, хочу задать совсем не риторический вопрос: зачем Россия присоединилась к Болонскому процессу? Страны Евросоюза в рамках Болонского процесса решают две задачи. Во-первых, осуществляют унификацию высшего образования по американскому образцу в контексте тенденции к глобализации. Во-вторых, стремятся как можно дольше и с наименьшими затратами средств удержать молодежь в стенах учебных заведений, чтобы предотвратить массовую безработицу и вспышки волнений среди представителей новых поколений, подобные тем молодежным волнениям, которые мы наблюдали в Париже и Лондоне. Между прочим, Болонские реформы пронизаны административно-бюрократическим духом, плохо воспри- нимаются в высшей школе стран со сложившимися традициями в сфере образования, науки и культуры. России американизация тоже вроде ни к чему, наша молодежь должна как можно раньше начинать трудиться, идти на производство, возрождать рабочие традиции. А мы перекраиваем учебный процесс, готовим ненужных производству бакалавров, вводим европейские зачетные единицы…
Непродуманные эксперименты дорого обошлись нашей высшей школе. В угоду тонкостей налогообложения были разорваны связи высших учебных заведений с экономикой. А единый государственный экзамен проложил водораздел между вузами и общеобразовательной школой, лишил смысла профессиональную ориентацию школьников – все равно все решают теперь безликие баллы. Наконец, государство и общество допустили, чтобы сотни тысяч наиболее подготовленных ученых и преподавателей самого работоспособного возраста уехали за рубеж или ушли в другие отрасли экономики. А мы удивляемся, почему это научные публикации отечественных авторов так редко цитируются на Западе…
Но не все потеряно! С течением времени можно было бы исправить два принципиальных недостатка в существовавшей системе, которые порождены регрессивными явлениями в движении нашей страны. Во-первых, создать настоящие элитные средние школы и гимназии для одаренных детей, что резко сократило бы убывание высокой интеллигенции – тонкого, как писал академик Н.Н. Моисеев, «озонового слоя нашей российской цивилизации». Во-вторых, памятуя, что резкое сокращение элиты из среды университетских выпускников уже приводило к массовому «попаданию» в высокие слои, в частности в среду госслужащих, всяких политических и бытовых легковесов, поэтому необходимо было бы создать ряд элитных университетов для подготовки таких работников и, вообще говоря, систему элитарного образования.
Но реальность совсем другая. Мы ведь не в Болонье живем, и наше государство складывалось не так как несчастный Евросоюз при крайне скудном наличии ресурсов. Мы хорошо помним, что никто в Европе не смог противостоять фашизму. Лишь наш народ в содружестве с англичанами и американцами смог это сделать. А теперь мы низко кланяемся их культуре, экономике, цивилизации в целом.
Должны же мы чему-нибудь учиться у себя. Ведь мы плохо живем не потому, что у нас нет ресурсов, а потому, что у нас нет культуры в широком смысле и наши должностные лица, принимающие решения, делают многое или даже все возможное, чтобы ее и не было.
Выдающийся Р. Нуреев в своем последнем интервью говорил: «Куда вы лезете: в эту измученную, изнасилованную Европу. Ведь Россия – это жемчужина мировой цивилизации, у вас есть все». Но мы «лезем». Нам нужно выполнять Болонские соглашения, иначе каких-то молодых людей не возьмут «туда» работать. Нам нужно ликвидировать свое образование, сельхозмашиностроение, свою авиапромышленность и летать на старых списанных американских боингах.
Как видим, главнейшим нашим тормозом развития является весьма плачевное состояние системы «образование – культура» [2]. Если бы часть наших граждан ассимилировала высокие показатели этой системы, у нас существенно уменьшились бы негативные явления жизни, в частности коррупция (а в просторечье – воровство и мздоимство) – этот бич Божий России.
Система «образование – культура» должна иметь своим нача- лом дошкольное учреждение. Это уже становится общим местом. Но пока никто не знает, как это сделать. На всех не хватает «французов убогих» (А.С. Пушкин), да и к современной динамике последние едва ли подходят. Видимо, следует начинать не с этого места, хотя это несомненное начало, а с чего-то другого, что более поддается модернизации. И таким началом является высшее образование.
Условно этот феномен цивилизации можно разделить на три группы. Первая группа в системе «образование – культура» представляет собой университеты для подготовки работников высшего аппарата, начиная с аппарата субъектов Российской Федерации вплоть до аппарата министерств и ведомств федерального уровня и правительства в целом, а также высших лиц, принимающих решения. Это должны быть относительно небольшие элитные классические российские вузы, желательно закрытые. В них должны работать высококвалифицированные отечественные специалисты, доктора наук, профессора. В программах этих вузов особое место следует отвести точным наукам (для воспитания точного мышления) как базисному элементу постановки и решения стратегических задач развития регионов и страны в целом. Значительное внимание должно быть уделено отечественной культуре – не истории, а предмету изучения – обучения.
Высочайшие образцы этого способа мышления всегда несли многие представители точных наук, например академик Н.Н. Моисеев. Он воспринимался у более молодого поколения как целостный великий русский интеллигент. Кандидаты на обучение должны подбираться примерно так же, как курсанты училищ спецслужб.
Обязательными спутниками таких элитных вузов должны быть элитные гимназии, которые, в частности, могли бы готовить вы- пускников к продолжению обучения в этих вузах. Но элитных гимназий должно быть значительно больше, чем требуется головным вузам, ибо общее среднее образование остро нуждается в коренной, если угодно, революционной, модернизации (не в смысле «преданности какому-нибудь «изму», а в смысле потребности страны в хорошо подготовленных к жизни, работе, поступлению в элитные вузы или другие учебные заведения молодых людях). Элитные гимназии следует обеспечить соответствующим преподавательским составом.
Проблема элитного образования и элитной культуры – это главнейшая системная проблема современной России. Низкий уровень базисной системы – основа буквально всех наших бед, разного рода тормозных процессов, время от времени развивающихся в России, политической незрелости – в общем, все то, чем мы недовольны, есть продукт слабости системы «образование – культура». Все это предполагалось около двадцати лет назад. Организовывать жизнь огромной страны люди, многие из которых есть продукт доцивилизованной эры, не могут, ибо в современной динамике, острой конкуренции народов самоорганизация вытесняется или дополняется организацией.
Таким образом, создание элитной системы «образование – культура» – самая внеочередная наша проблема, несмотря даже на длительный инкубационный пери-

Это не дворец съездов, не Госдума, не дом Правительства, и даже не дворянское собрание, а Дворец земледелия. Удивительно и прекрасно!
од в 15–20 лет. Если сейчас ничего не делать, то дебилизация (как говорят «хорошо информированные оптимисты») приведет нас к реальной катастрофе со всеми нашими хорошими решениями, борцами против коррупции, заседаниями всякого рода советов, горячими выступлениями и др. Ничего не получится в стране безнравственных людей, в семьях (домах), которых (пусть отдельных) дети пяти-семи лет уже разговаривают на матерном языке, которые лгут по заказу безнравственных и плохо образованных лиц, принимающих решения о деятельности официальных средств массовой информации.
Мы все-таки смеем думать, что наша жизнь, во всяком случае пока, не подпала под действие закона социальной сингулярности, поэтому настойчиво предлагаем немедленно начать реальное освоение системы «образование – культура» [3].
Теперь о некоторых особенностях второй составляющей – культуры. Одновременно с организацией элитных университетов и спутниковых (или лучше – дочерних) гимназий в городах их размещения должны быть созданы комплексы высокой культуры. Города должны иметь оперные театры, консерватории, филармонические оркестры.
Надо отметить, что у нас в России и сегодня есть такие оазисы, сложившиеся стихийно. В определенной степени там живут несколько другие люди, во всяком случае заметная часть из них. Со- шлюсь на пример Саратова. Помните, в начале XIX века: «в деревню к тетке! В глушь! В Саратов!» В начале XX века в нем появился мощный классический университет с огромной библиотекой, здание которой подозрительно напоминает блок библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. В городе имеются пять сельхозинститутов, впоследствии объединенных в новый университет, военно-медицинская академия, оперный театр, консерватория, три музыкальных училища. Там же возникло чудо для детей – Наталья Сац. В общем, город умиротворяет. В нем чувствуется «русскость» Поволжья, хотя, в общем, он беден (опять наши издержки).
Достойно в этом смысле выглядит Казань. Достаточно напомнить великолепный и, главное, сооруженный в наше время Дворец земледелия. Подобных зданий современной конструкции автор настоящей статьи не встречал. Празднование тысячелетия Казани резко отличалось по уровню культуры от подобных мероприятий в других городах.
Второй блок в системе «образование – культура» столь же важнейший, жизнеопределяющий, относится в основном к экономике страны. Это подготовка менеджеров с соответствующим развитием менеджмента как науки. В количественном отношении все наши вузы готовят менеджеров. Отсюда должно следовать, что наука об управлении у нас находится на высоте, а все действующие предприятия в достаточной степени укомплектованы менеджерами. Рассматривая менеджмент как «процесс управления экономикой на разных уровнях с целью достижения определенных задач путем рационального использования ресурсов», специалисты выделяют три уровня менеджмента: уровень управления национальной экономикой – это государственный менеджмент или госу- дарственное управление; уровень управления отдельной территорией (регион, город, район); микроуровень – управление фирмой [4].
В теории и практике управления накоплен колоссальный материал, который по своему объему, несомненно, превосходит любой подлежащий освоению научно-технический курс. Поэтому, в частности, менеджеров даже областного масштаба следует готовить не в бывших высших партийных школах (хотя получаемое там своеобразное высшее образование в свое время было неплохим), а в специальных элитных вузах, особенно менеджеров государственного уровня.
Более того, нам представляется, что готовить таких менеджеров следует из состава сложившихся специалистов с соответствующими личностными качествами, о воспитании которых в студенте так много и так самозабвенно пишут отечественные (и не только) ученые. Здесь должен быть использован опыт академии Генштаба: туда не может поступить рядовой срочной службы (или даже вместо срочной службы); заметное число слушателей формируется из элитных офицеров. К тому же в правила приема в элитный управленческий вуз желательно включить опыт некоторых стран, в которых от кандидата в академию требуется письменная рекомендация высшего чиновника государства в ранге министра (есть надежда, что подготовленный в таком вузе менеджер будет служить «царю и отечеству» беззаветно).
Между тем в подготовку менеджеров, судя по научной и учебной литературе, все больше внедряется информации и методов, похожих на белый шум (в математическом смысле). Это подтверждается, в частности, заключением очень неплохой работы проректора Государственного университета управления В.И. Звонникова: «Так или иначе, новому поколению кадров управления, которое

А.А. Дейнека. Будущие летчики
сегодня проходит обучение в аудиториях вузов, предстоит дать ответ на глобальные вызовы ХХI века, преодолеть перманентный кризис, которым отмечено нынешнее столетие. И я думаю, надеюсь и мечтаю, что отечественные кадры управления сумеют вывести нашу экономику из состояния стагнации и вернут России роль локомотива мирового экономического и научно-технологического роста» [5].
Следует отметить, что, наряду с важнейшим пластом подготовки менеджеров – «людоведением» (прошу простить за вульгаризм, но уж очень большой перекос), на наш взгляд, следует ввести вопросы математического моделирования гиперсистем, одной из которых является в первую очередь экономика страны, и на основе изучения модели разрабатывать соответствующие проблемы прогнозирования. Гиперсистема «экономика» – вероятностная (стохастическая) система.
Понимая высокую значимость анализа динамических систем, мировая наука интенсивно ведет исследования управления вероятностными гиперобъектами с середины 1960-х годов. Весь накоплен- ный научно-аналитический материал должен послужить основой для изучения развития названной гиперсистемы как объекта управления. Следует подчеркнуть, что для выработки математического фундамента необходимо мобилизовать все имеющиеся в стране значимые научные коллективы. Без научного базиса точных наук никто России роль локомотива мировой экономики не вернет: пока наши служители менеджмента будут искать решения логико-эвристическим путем (а то и на базе «ценнейших указаний»), кто-то просто разберет рельсы и с удовольствием отправит их на базы вторчермета. Еще раз подчеркнем, что нам нужны не только прогнозы о том, когда исчерпаются наши запасы нефти, газа, угля, леса, красной рыбы либо фантазии на темы об их замещении. Мы нуждаемся в глубоком математическом анализе гиперсистемы «экономика России» с динамикой поведения главнейших ее параметров в сечениях и изменении их во времени как стохастических процессов, то есть риски и вызовы (как говорят экономисты) воспринимаются как общее, если угодно, как управляемое развитие

А.И. Бутов. Строительство Магнитки
нашей страны. В пользу математического моделирования отметим, что практически все лауреаты Нобелевской премии по экономическим наукам (зарубежные, к сожалению) заканчивали еще и математические факультеты. Лауреатские медали им достались через серьезное приложение математики. У нас же некоторые экономисты даже роль государства в современной экономике России обосновывают, что называется, на пальцах.
Еще один важный момент в функционировании, а следовательно, подготовке высших менеджеров. Как замечено, в условиях либеральной экономики высшие менеджеры берут управление на себя в кризисных (критических) ситуациях. Это показал опыт разрешения последнего экономического кризиса, который проявил ряд новых малоизвестных ранее свойств.
Можно аппроксимировать режим работы высших менеджеров в эти периоды как «режим ручно- го управления», когда инструменты демократии, предназначенные для автоматизированного управления экономикой или функционирования государственной машины в целом, дают сбои по различным причинам. Гиперсистемы функционируют, меняя базовые параметры во времени по закономерностям вероятностных процессов, или аппроксимируются ими, даже нестационарными. Если это так, то течение вероятностных процессов не может не сопровождаться выбросами и катастрофами (в математическом смысле). В экономике последние отражаются угрозами и кризисами. Для сокращения негативного влияния этих процессов целесообразно использовать ситуационное управление, переходя на ручной режим.
Приведем в этом смысле два примера из функционирования нашей страны.
Пример первый относится к блистательному мгновенному, даже в рамках реального време- ни, возвращению Крыма в состав России – операции наших высших лиц, принимающих решение, были столь виртуозны, что даже те, кто готовил «революцию» в Украине в течение 20 лет, были потрясены неожиданностью и уровнем решения проблемы.
Пример второй относится к воскресению наших Вооруженных сил, которые после замены министра обороны буквально в течение нескольких месяцев оказались способными успешно проводить учения с участием десятков дивизий полной комплектации, не говоря уже о восстановлении системы подготовки военных кадров.
Оба эти примера управления в ручном режиме, выполненные нашими высшими должностными лицами, принимающими решения, вселяют надежду на качественное и быстрое решение других не менее сложных критических (закритических) задач, стоящих перед современной Россией. Во всяком случае, оба эти грандиозные явления подтвердили, во-первых, что инструментария ручного управления у высших лиц, принимающих решения в России, достаточно. Во-вторых, целесообразность в критических ситуациях использовать ручное ситуационное управление. Оба примера вскрыли необходимость введения в процесс подготовки менеджеров, особенно высших, изучения ручного управления, которое в общем еще нуждается в разработке.
Из сказанного следует, что и на микроуровне менеджмента – управление предприятием – требуется коренная модернизация обучения на основе новых знаний. На наш взгляд, для подготовки разного уровня управляющих и организаторов производства, даже в рамках фирмы, в университеты принимать школьников нельзя. Подготовка менеджеров должна производиться из людей – технологических специалистов в области процессов и производств, которыми эти люди собираются управлять и организовывать их в будущем. По существу, это второе высшее образование, которое они получают не одновременно с первым, как широко распространено сейчас (уже привычная нам профанация), а после определенного периода работы в реальном производстве. Они, эти люди, должны подвергаться определенному тестированию и иметь письменную рекомендацию от руководителя производства как физического лица, написанную по результатам работы.
Все приезжающие в США на предмет изучения рабочих процессов и менеджмента испытывают изумление и восхищение безупречным знанием своей работы людьми, своих производственных обязанностей и той легкостью, с которой они «управляют» (не только автомобилями, конечно). Такой квалификации нам остро не достает, а судя по представлениям специалистов по менеджменту о менеджменте, еще долго не будет доставать.
В заключение, возвращаясь к системе «образование – культура», сделаем следующие выводы.
-
1. Система «образование – культура» – это базисный блок развития и совершенствования нашей страны, реально находящийся в экстремальных условиях мирового развития во всех смыслах и во всех измерениях, остро нуждающийся в коренной модернизации, технология которой должна опираться на разработку и анализ математической гипермодели. Разработка такой модели и ее использование для модернизации требуют мобилизации всего интеллектуального потенциала современной России под руководством высших лиц, принимающих решения, не исключая ручного управления в некоторых аспектах. Частная цель реализации такой программы – подготовка элитных высших лиц, принимающих решения для всех ключевых
-
2. России необходимы элитные университеты в каждом федеральном округе с элитными гимназиями-спутниками, готовящими в основном абитуриентов этих вузов. Элитные гимназии должны быть одновременно зональными пилотными проектами для всех образовательных средних школ как инструмент повышения качества системы «образование – культура» в сегменте ответственности общего среднего образования.
-
3. Система подготовки менеджеров всех уровней в России, как основа развития и повышения эффективности национальной экономики в условиях стохастической внешней среды, требует в целом серьезной модернизации.
составляющих жизнедеятельности России.
Мне могут возразить: у нас уже созданы федеральные и национальные исследовательские университеты, где сосредоточены лучшие научно-педагогические силы страны и значительный контингент студентов. Соглашусь, что это – шаг в правильном направлении. Однако что-то с самого начала пошло не так, в том числе и из-за гигантомании. Вузы, вошедшие в состав федеральных университетов, потеряли изрядную долю самостоятельности, вся работа в большинстве этих университетов (и не только в них) обросла немыслимыми бюрократическими подробностями.
Базисом подготовки должно быть двуединство системы «образование – культура», опирающееся на новые знания об управлении с их последующим изучением, выписанные с достаточным уровнем детализации и способные обеспечить направления четвертой модернизации экономики страны (третья модернизация в период перестройки не состоялась).
Особо хочется подчеркнуть нелепость и даже вредность зигзагов в организации образования, и не только образования. Культура «вползла сама»: видимо, мы имели дело с мощной дуальной си- стемой, которая уже «жалуется» на людей. Вообще же пару «образование – культура» можно аппроксимировать схемой двойной звезды, в которой «работает» детерминированная сильная связь. Если бы кому-то удалось разрушить эту связь (хотя, возможно, каждый из подблоков имел разное и разновременное происхождение), то с обеими звездами пары произошли бы необратимые изменения. «Образование – культура» – это такой же феномен в сообществе людей, как пространство-время во Вселенной. На временных отрезках культуру рушат необразованные люди, а образование – без-культурные. В той точке пространства-времени, где мы сейчас живем, пара «образование – культура» – главнейшая субстанция. Все остальное – следствия.
Сколько бы критики не вызывала наша система высшего образования, как бы она не была справедлива, я, как и большинство коллег, считаю, что Россия была и будет университетской державой.
Не зря А.М. Горький одно из лучших своих произведений назвал «Мои университеты». Ведь вся наша российская действительность учит и наставляет человека. И самые способные получают в гуще жизни великолепное университетское образование.


