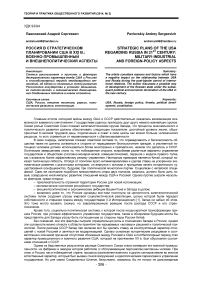Россия в стратегическом планировании США в XXI в.: военно-промышленный и внешнеполитический аспекты
Автор: Павловский Андрей Сергеевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 2, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья рассказывает о причинах и факторах деструктивного характера между США и Россией в «постбиполярный период» международных отношений, об одном из возможных путей развития Российского государства в условиях дальнейшего политического и экономического доминирования Соединенных Штатов в новом столетии.
Сша, Россия, внешняя политика, угрозы, политическое развитие, конституция
Короткий адрес: https://sciup.org/14936386
IDR: 14936386 | УДК: 93/94
Текст научной статьи Россия в стратегическом планировании США в XXI в.: военно-промышленный и внешнеполитический аспекты
Главным итогом холодной войны между США и СССР действительно оказалась минимизация возможности взаимного уничтожения. Государствам удалось преподать друг другу немало важнейших уроков. Своей ролью Советский Союз показал капиталистическим кругам Запада, что процессы экономического и политического развития должны обеспечивать следующие показатели: достойный уровень жизни; общепринятый 8-часовой трудовой день; подключение и охват в свои циклы как можно больше человеческих ресурсов, то есть стремиться от неравномерности к сбалансированности.
В свою очередь, капитализм показал советской системе то, что справедливость и бесклассовость общества также не должны оставаться в стороне от наращивания благосостояния граждан, а умственный потенциал человека должен использоваться более многогранно и прагматично, нежели это делалось в СССР. Логическим завершением стало то, что побежденная сторона, испробовав различные варианты управления государством и обществом (сословно-монархический, коммунистический), перешла к модели правого толка, как к возможно более эффективному режиму управления. Наглядным примером является Китай, который показал тактическую гибкость. Отойдя от политики ярого антиимпериализма и сделав ставку на ускоренное экономическое развитие с рыночными контурами, он вернулся к истокам и принципам своего исторического существования (конфуцианство, буддизм) при политической монополии партии. Социализм с китайской спецификой. Само же окончание подобного межсистемного спора двух полюсов, казалось, должно было дать новый, совершенно иной импульс развитию отношений между США и Россией. Однако против сыграли несколько факторов, среди которых:
– привлекательность огромной территории России для новой колонизации;
– экономическое состояние российского государства;
– внешнеполитические и экономические амбиции Вашингтона и Запада в целом;
– возможно даже то, что Россия однажды все-таки посягнула на целостность капиталистической системы путем создания угрозы мировой социалистической революции, целью которой были передел собственности и стирание границ между государствами (I-й Интернационал) [1]. Запад не забыл об этом. Это тоже могло вызвать схожую, но завуалированную реакцию после распада СССР и его стран-союзников.
Кроме того, социально-политическая система, к которой после неоднократной трансформации пришла Россия, при условии эффективного управления государством, также в обозримом будущем могла бы представлять для Запада угрозу быть поглощенным со стороны пары Россия-Китай.
Без сомнений, все эти факторы сыграли отрицательную роль в отношениях Запада и России, однако эти условности можно отнести к области принятия так называемых «волевых» решений и политической психологии. После распада СССР Запад при желании мог бы сделать ставку на конструктивный характер отношений с новой Россией и заняться ее модернизацией. Однако основным историческим рецидивом и соответственно ключевой причиной отсутствия сближения между Россией и США в постбиполярный период стал характер промышленного и военного развития США, который на протяжении XX в. был обусловлен состоянием отношений с СССР.
Одним из бедственных результатов распада Советского Союза стала конверсия его военной промышленности, на фабриках и заводах которой работали (с обслуживающим персоналом) миллионы человек. При этом, в России, как в побежденной стране, процессы разложения военного и других секторов имели во многом естественный характер, который был вызван гонкой вооружений и идеологическими перекосами в управлении государством. Но для самих Соединенных Штатов, безусловно, оказалось бы не только не дальновидным поступком, но и физически невозможным действием – объявить добровольный самороспуск военной системы, которая выстраивалась в течение нескольких десятков лет. Действительно было бы равносильно самоуничтожению – попытаться реорганизовать даже часть того огромного рынка труда, который смог обеспечить американцам национальную безопасность, мировое политическое и экономическое лидерство, а также первое место по экспорту оружия. Что здесь подразумевается? Армия США составляет более чем 1,4 млн чел. и 1,1 млн резервистов, 17 видов разведки и отрасли, обслуживающие оборонку. Так 7 из 10-ти крупнейших военных корпораций принадлежат США [2], среди которых только на таких военных подрядчиках, как «Локхид-Мартин» и «Дженерал Электрик» работают соответственно 120 тыс. и 323 тыс. чел. В совокупности в Соединенных Штатах на оборонное ведомство работают более 6 млн чел. физически активного населения страны и приходится 1,1 % всей территории США [3]. Также военно-промышленный комплекс считается одним из крупнейших потребителей стали, нефти, компьютерных систем, продовольствия и медикаментов. Вся система надстраивается банками, которая через биржи и другие инструменты получает прибыль и через СМИ выходит на потребителя. Как известно, с 2001 г. военный бюджет США вырос в 3 раза по сравнению с 2000 г. и составляет по данным на 2008 г. приблизительно 600 млрд дол. в год [4].
Основной особенностью послевоенного периода в развитии социально-политической системы Соединенных Штатов стало объединение экономических интересов крупнейших государственных (военных) и торговых корпораций США. Наличие такого идеологического врага как СССР, требовало от США обеспечения как собственной безопасности, так и безопасности своих союзников. Однако об опасности консолидации «бизнеса и военных» в таких масштабах еще на ранней стадии предупреждал президент Д. Эйзенхауэр [5]. Политик полагал, что США, превратившись в глобальную военно-экономическую корпорацию, в дальнейшем станут неповоротливой структурой и будут неспособны отвечать на вызовы иных политических реалий, что автоматически создаст угрозу национальной безопасности. Реорганизация даже части действующего экономического уклада будет практически невозможна, поскольку, однажды начавшись, к примеру, с конверсии военно-промышленного комплекса, она по цепочке может привести к потере международного влияния и сворачиванию внушительной части экономики страны. В послевоенное время сотрудничество американцев с европейцами, японцами и китайцами породило множество конкурентных экономических центров, постепенно сдвигающих США с их лидерских позиций. Подобный расклад, в свою очередь, создает угрозу статусу доллара, как мировой резервной валюте. Также наряду с внешними вызовами постбиполярного периода в США одной из серьезнейших проблем стало хроническое недофинансирование вооруженных сил и разведки, которое сопровождалось упадком в них морального духа. Об этом с особой озабоченностью свидетельствует Дж. Тенет, директор, возглавлявший ЦРУ с 1997 по 2004 г. [6].
Таким образом, на первый взгляд, в благоприятных условиях постбиполярного периода, для сохранения лидерских позиций США в мире, формат «всеобщей демократизации» в их внешней политике приобрел статус единственного и универсального средства по вмешательству во внутренние дела других государств. Экономическое состояние России, наряду с Китаем и некоторыми неугодными для США странами Ближнего Востока, сделали их наиболее выгодными целями для подобной проекции. Условия требовали от Вашингтона радикальной смены внешнего курса. Для осуществления такой задачи на стыке XX–XXI вв. наиболее удобным инструментом для американского истеблишмента оказались политические взгляды представителей неоконсервативного движения, которые еще летом 1996 г. в июньско-августовском номере журнала Foreign Affairs («Международные отношения») предложили свою программу действий:
-
– мощное увеличение военного бюджета;
-
– пропаганду патриотизма и милитаристских ценностей среди гражданского населения, рекрутирование в ряды армии как можно больше добровольцев;
-
– «моральная ясность» действий – активное внедрение во всем мире принципов демократии, рыночной экономики и уважение к свободе [7].
Примечательно то, что такая радикальная смена внешней политики США совпадает не только с террористическими актами 11 сентября 2001 г. в г. Нью-Йорке и г. Вашингтоне, но и с началом восстановления сил России. Отсюда начинается и новая страница в отношениях между двумя государствами. Даже после терактов и последующего временного сближения Россия ощутила всю полноту «мягкой» силы американцев. Помимо ненасильственного свержения власти в постсоветских государствах с целью дестабилизации обстановки по периметру границ России, США используют разные формы давления.
Официальное (дипломатическое) давление на Россию: осуждение политики на Северном Кавказе, препятствование стремлению к обеспечению энергетической независимости (возвращение под контроль России активов «Сибнефти», «Сахалин Энерджи», бывшего «ЮКОСа» и «ТНК-БП»), критика за недостаточное обеспечение прав человека. Экономическое давление (до 2012 г.): торможение процессов по вступлению России во Всемирную торговую организацию и сохранение поправки «Джексона-Веника» от 1974 г. Из неофициального давления наиболее опасным видом является финансирование американскими неправительственными организациями несистемной оппозиции внутри России и стран СНГ, а возможно даже и системной, а также военная поддержка сепаратистов в регионе Северного Кавказа и информационные войны в интернет-пространстве.
Успехи перманентных революций в Сербии в 2001 г. и по периметру постсоветского пространства привели американское руководство к пересмотру военной и политической тактики в неугодных для США государствах. Независимый военный эксперт И. Попов, изучая директивы министерства обороны США № 3000.05 от 2005 г. [8], раскрывает их суть: в условиях полного военно-политического доминирования Соединенных Штатов в мире уже не возникнет надобности армейским подразделениям страны вести крупномасштабные войны с многомиллионными жертвами. В связи с этим, американские вооруженные силы (далее – ВС) переходят к так называемым «операциям по стабилизации» – краткосрочным экспеди- ционным операциям. Далее эксперт указывает на документы Комитета начальников штабов ВС США JP 3–0 «Joint Operations» (Межведомственные операции) от 2006 г. [9], в которых войска и другие спецслужбы будут оказывать поддержку тому или иному правительству в зависимости от того, какую из враждующих сторон Белый дом посчитает легитимной. Наконец, в октябре 2008 г. вышел полевой устав ВС США FM 3–07 Stability Operations («Операции по стабилизации») [10], в котором уже окончательно были сформированы понятия и критерии «стабильного», «хрупкого», «средней и низкой стабильности» государства, в зависимости от политической обстановки в той или иной стране. Далее, эксперт приходит к выводу, что в представлениях американских стратегов Россия рассматривается в качестве «хрупкого государства».
Обобщая вышеуказанное можно утверждать, что реализация подобной политики означает: в обозримом будущем Россия не будет восприниматься США ни как союзник, ни как партнер, за исключением тех областей, где оба государства могут обеспечить друг другу взаимное выживание, то есть в вопросах нераспространения ядерного оружия и их материалов, а также в контроле над обычными вооружениями. Хотя и здесь американцы пытаются лишить Россию стратегического паритета. Подобная политика будет осуществляться до тех пор, пока страна не докажет, что любое давление и ослабление ее позиций бесперспективны.
Между тем, в России до сих пор сохраняется угроза кардинального ослабления государства вплоть до его развала, прежде всего, путем поддержки как системной, так и несистемной оппозиции. Успех тактики США просматривается благодаря неравномерному уровню жизни россиян и концептуальной разобщенности населения страны. Учитывая непопулярность конституции Российской Федерации (далее – РФ) от 1993 г., как и предшествующих ей государственных документов (Били о правах Российской империи и Конституции СССР), определяется историческое отсутствие в России подлинного национального объединительного документа. При разном уровне жизни граждан России, отсутствие национальной государственной концепции по-прежнему создает угрозу образования в стране общества, сугубо потребительского характера, позволяющего использовать себя в интересах иностранных государств. К принятию такого документа страна должна подготовиться. При условии поступательного развития общества, о котором свидетельствуют амбициозные планы экономических мер правительства РФ и модернизации армии до 2020 г., необходимо провести глубокую образовательную и патриотическую работу с населением страны. Оптимальным вариантом здесь видится подготовка младших поколений. Сегодня это могли бы стать дети приблизительно возраста 5–7 классов. Документ в своей сущности должен сыграть мотивационную и разъяснительную роль преамбулы Конституции РФ от 1993 г., которая просто копирует Конституцию США. Соответственно концепция должна обязательно учитывать и отображать весь логический ход исторических процессов в России, а именно:
-
– развитие высокотехнологичных отраслей производства как первостепенной задачи государства на весь грядущий XXI в.;
-
– прогрессивную шкалу налогообложения;
-
– 8-часовой рабочий день, право на отдых и другое;
-
– приверженность традиционным семейным институтам и ценностям светского государства;
-
– пропаганду и программы в области развития патриотизма, тяги к знаниям и спорту как наивысших приоритетов нации;
-
– формирование и выработка личных качеств гражданина, в основе принципов которых лежала бы интеграция общества внутри страны.
Реализация подобной альтернативной концепции привела бы к принципу взаимной ответственности в отношениях между государством и гражданами – аналогу западного общественного договора. Это позволило бы раскрыть сущность конституционной преамбулы, которая не является источником прямого действия, но характеризует естественный смысл развития государственного организма. Национальный объединительный документ также должен ссылаться на конкретизирующие статьи конституции, в которых прописана схема и детали госуправления. Вероятность осуществления подобных шагов помогла бы в обозримом будущем России обрести свое концептуальное назначение, повысить эффективность отдачи от работы и уберечь страну от новых волн колонизации и возможного распада на отдельные территории.
Ссылки:
-
1. Интернационал 1-й // Большая советская энциклопедия. URL: http://academic.ru/dic.nsf/bse/90795 (дата обращения: 24.12.2013).
-
2. Список крупнейших мировых военных корпораций // Данные Министерства Обороны США. URL:
-
3. Ярынич В.Е. Динамика военного бюджета США // Россия и Америка в XXI в. URL:
-
4. Кокошин А.А. За фасадом глобальной политики. М., 1981. С. 132.
-
5. Перкинс Дж. Тайная история американской империи. М., 2008. С. 243.
-
6. Тенет Дж. В центре шторма. М., 2009. С. 49.
-
7. Kristol W., Kagan R. Toward to Neoreagan Policy // Foreign Affairs. URL:
-
8. Попов И.М. Вооруженные силы США в условиях краха российской государственности // Футурологический конгресс: проблемы России и мира. М., 2010. С. 514.
-
9. Там же. С. 514.
-
10. Там же. С. 515.
(дата обращения: 24.12.2013).
(дата обращения: 24.12.2013).
(дата обращения: 24.12.2013).