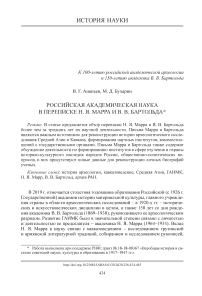Российская академическая наука в переписке Н. Я. Марра и В. В. Бартольда
Автор: Ананьев В.Г., Бухарин М.Д.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: История науки
Статья в выпуске: 256, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается обзор переписки Н. Я. Марра и В. В. Бартольда более чем за тридцать лет их научной деятельности. Письма Марра и Бартольда являются важным источником для реконструкции истории археологического исследования Средней Азии и Кавказа, формирования научных институтов, взаимоотношений с государственными органами. Письма Марра и Бартольда также содержат обсуждение деятельности по формированию институтов в сфере изучения и охраны историко-культурного наследия народов России, общественно-политических вопросов, в них присутствуют новые данные для реконструкции личных биографий ученых.
История археологии, кавказоведение, средняя азия, гаимк, н. я. марр, в. в. бартольд, архив ран
Короткий адрес: https://sciup.org/143169004
IDR: 143169004
Текст научной статьи Российская академическая наука в переписке Н. Я. Марра и В. В. Бартольда
В 2019 г. отмечается столетняя годовщина образования Российской (с 1926 г. Государственной) академии истории материальной культуры, главного учреждения страны в области археологических исследований – в 1920-х гг. – исторических и искусствоведческих дисциплин в целом, а также 150 лет со дня рождения академика В. В. Бартольда (1869–1930), руководившего ее археологическим разрядом. Развитие ГАИМК было в значительной степени связано с личностью и деятельностью ее председателя – академика Н. Я. Марра (1964–1934). Вклад Н. Я. Марра в науку связан с кавказоведением – исследованием грузинской и армянской литературной традиций, собиранием и исследованием рукописей,
* Работа выполнена при поддержке РНФ; грант № 18-18-00367 «Всеобщая история в системе советской науки, культуры и образования в 1917–1947 гг.».
развитием археологических исследований на Кавказе. Лингвистические изыскания Марра едва ли имеют отношение к научной деятельности. В. В. Бартольд – выдающийся востоковед-универсал (тюрколог, арабист, иранист), результаты самостоятельной археологической деятельности которого в значительной степени пока еще не опубликованы. И Марр, и Бартольд принадлежат к школе академика В. Р. Розена, учениками которого (хотя и разных поколений) они являлись (переписка Марра и Розена издана фрагментарно, хотя полностью подготовлена к печати еще В. А. Миханковой; см.: Рябошлык , 2009. С. 476–502). Оба ученых тесно общались на протяжении более 30 лет, их переписка является важнейшим источником по истории российской науки в целом и археологии в частности.
В Санкт-Петербургском филиале архива РАН (СПбФ АРАН) сохранилось 29 писем и телеграмм, отправленных В. В. Бартольдом Н. Я. Марру. Переписка сохранилась, определенно, не полностью, так как Марр ссылается на письма Бартольда (например, в своих письмах от 18 июля 1896 г., 28 августа 1902 г.), которые в его фонде не сохранились, или на информацию, которую он мог получить только в письмах Бартольда (например, письмо от 28 августа 1902 г.), отсутствующих в его фонде. Писем Марра Бартольду публикуется 12; ранее переписка цитировалась лишь эпизодически (см., например, фрагмент письма от 9 июня/27 мая 1912: Рябошлык , 2009. С. 460, 461).
Первые письма Марра Бартольду были написаны в ходе командировки Марра в Австрию и Италию, полученной для работы над армянскими рукописями: Марр готовил магистерскую диссертацию ( Миханкова , 1949. С. 77). В них Марр просит Бартольда о мелких услугах, однако тут же готов перейти к материям глобальным: принципам научной работы, оценке ситуации с развитием науки в России в целом. Молодым людям свойственна горячность, и в переписке они переходят от масштабных обобщений к чувству усталости от громких слов, представая друг перед другом уже умудренными опытом старцами.
Затем Марр останавливается на обстоятельствах своих путешествий, причем элемент беллетристики явно в этих описаниях превалирует. Марр мог похвастаться бойким слогом и яркостью образов.
Далее в переписке коллеги неоднократно касаются вопросов глобальных масштабов. Так, в письме от 11 июня 1915 г. (СПбФ АРАН. Ф. 800. Оп. 3. Д. 82. Л. 35–37 об.) Бартольд обсуждает взгляды Марра на культурно-исторические процессы на Кавказе и в Закавказье. Он мягко упрекает Марра в определенном кавказоцентризме и стремится показать, что источников культурного влияния в регионе было больше, чем Марр об этом говорит в своих работах.
Интересно, что обсуждение глобальных исторических процессов соседствовало в письмах с дискуссией относительно отдельных параграфов уставных документов по приему экзаменов у студентов и иными мелочами, соседство которых с обменом мнений по вопросу единства исторических процессов выглядит, на первый взгляд, странно.
Говоря о Бартольде после кончины коллеги, Марр всегда отдавал дань его личным качествам и научным заслугам: «Человек стойких, прочных привязанностей в отвлеченной науке, так же как в повседневной жизни и семейной. Добродушнейшего Василия Владимировича боялись как огня: искренность поддержит без лишнего слова и в противнике; фальши никому не спустит, будь он родной брат... В лицемерных условностях общежития в старом быту Василий Владимирович был труден, отнюдь не приятен, общественно одинок, без круга друзей. К нему тянулись, наоборот, с далекой периферии» (Марр, 1931. С. 8).
Н. Я. Марру принадлежат наиболее глобальные, но от того не менее точные оценки вклада Бартольда в мировую науку: «востоковедов-историков калибра Бартольда на Западе не было ни одного». Марр дал оценку и месту Бартольда в ней, утверждая, что Бартольд – «не меньший историк Запада, чем историк Востока» (вывод, согласно которому «в Азии и в Европе действуют одни и те же законы исторической эволюции», сделан Бартольдом в малоприметной рецензии) ( Бартольд , 1899. С. 355).
Марр основывался на том, что Бартольд не разделял исторический процесс на два потока, рассматривал историю Востока и Запада в их нераздельном единстве. Эти выводы Марр мог сделать не только на основании трудов Бартольда, но и по материалам их переписки. Бартольд делился с Марром своими соображениями по данному поводу в письме от 27 мая/9 июня 1912 г.: «…все-таки между средневековой Европой и средневековым передне-азиатским Востоком много общего, особенно когда идет речь о городе, который был обязан своим процветанием торговым связям (конечно, не непосредственным) с Востоком и потерял значение вследствие перемены направления торговых путей после открытия португальцами нового пути в Индию» (СПбФ АРАН. Ф. 800. Оп. 3. Д. 82. Л. 6 об.). И более чем через 10 лет Бартольд в письме от 10 апреля 1923 г. (СПбФ АРАН. Ф. 800. Оп. 3. Д. 82. Л. 45–46 об.) сообщает Марру свои впечатления от доклада выдающегося медиевиста А. Пиренна, в котором тот ставит развитие Западной Европы в период раннего Средневековья в зависимость от контактов с мусульманским Востоком. Вопрос единого исторического пространства не оставлял Бартольда на протяжении всей его жизни.
Марр, безусловно, разделял взгляды Бартольда на единство исторического процесса. Однако проявлялось это не столько в научных исследованиях, сколько в административно-педагогической деятельности. Став деканом ФВЯ СПбУ в 1911 г., Марр стремился решительно изменить подход к организации учебного процесса, объединив методику исследований историко-филологического факультета с учебным планом факультета восточных языков. Изменения наиболее быстро почувствовало следующее – не менее блестящее – поколение востоковедов (см.: Алексеев , 1935. С. 67). Тем не менее, во всяком случае вначале, Марр явно тяготился новым назначением. Он признается Бартольду в письме 4 августа 1912 г.: «Я все думаю о том, как устроить, чтобы быть замененным более подходящим деканом. Моя жизнь ни летняя, ни зимняя не мало не соответствует тем привычкам и образу жизни, кои должны быть свойственны декану» (СПбФ АРАН. Ф. 68. Оп. 2. Д. 144. Л. 12 об.). В представлении Марра, декан – фигура, скорее «привязанная» к кабинету на факультете, чем склонная к разъездам в экспедиции и зарубежные командировки. Тем не менее Марр, очевидно, быстро привык к исполнению административных должностей и до конца дней своих принимал новые назначения охотно.
Оценки, данные научному творчеству Бартольда Марром, полностью разделяли и менее эмоциональные историки (Крачковский, 1944. С. 95). И. Ю. Крачковский был одним из младших коллег Бартольда, который знал его труды не только «в целом», но и глубоко «в частностях» (при этом сетуя на низкий уровень знакомства с трудами Бартольда со стороны научного сообщества), на уровне методики работы с мельчайшими деталями исследования. Крачковский выделял не только широчайший кругозор Бартольда, но и «трезвость» его исследований, отказ от работы с неверифицируемым материалом и от апелляции к абстрактным категориям с размытым содержанием (расовая психология, изменения климата) (Крачковский, 1944. С. 96). В определенной степени такое противопоставление можно рассматривать как скрытый намек на самого Марра, в трудах которого по развитию языка и мышления вопросы психологии играли важнейшую роль.
Нельзя при этом сказать, что отношения Бартольда и Марра в науке были исключительно благостными, лишенными какой-либо критичности. Так, Бартольд стоял у истоков журнала «Мир Ислама». Марр, наряду с Б. А. Тураевым и В. Н. Бенешевичем, был одним из инициаторов издания журнала «Христианский Восток». Марр в первом выпуске «Христианского Востока» дал оценку понимания Бартольдом процессов наследования культурных ценностей между античной и мусульманской цивилизацией, роли христианских народов Востока в этих процессах. Бартольд, найдя эту рецензию не вполне точной, дал свою оценку как собственно культурно-историческим процессам, так и мнению Марра по данному поводу ( Бартольд , 1912. С. 412–425). При этом Бартольд в первом же примечании не преминул язвительно заметить, что Марр попытался спрятаться за псевдонимом. Оценки были даны в высшей степени уважительно, однако нельзя не отметить, что указания ординарному академику и признанной величине в целом ряде научных дисциплин выглядели при этом достаточно смело.
При оценке отношений Бартольда и Марра нельзя, однако, упускать из виду то обстоятельство, что они были женаты на родных сестрах, которые к тому же приходились сестрами еще и академику В. А. Жуковскому – крупнейшему авторитету в области иранистики, также ученику В. Р. Розена.
Между Марром и Бартольдом происходили и сцены, которые можно расценить и как забавные, и как выдающие определенное напряжение в отношениях. Так, на заседании Восточного отделения Русского археологического общества под председательством Бартольда между ними имел место следующий диалог, переданный учеником Марра И. А. Орбели: «Тихо и невнятно Бартольд открыл заседание и прочел доклад. Н. Я. Марр хотел что-то сказать, но Бартольд его прервал и сделал какое-то замечание. Марр разозлился и сказал: “Я Вам слова не давал.” – “Как Вы мне слова не давали? Ведь я председатель!” – “А я забыл, – ответил Н. Я. Марр, – я думал, что это восточный факультет”» ( Орбели , 1986. С. 152).
Одно из последних писем Марра к Бартольду (от 7 мая 1929 г.), написанное из Парижа, также выдает непонимание друг друга: полно упреков, и скорее всего несправедливых (СПбФ АРАН. Ф. 68. Оп. 2. Д. 144. Л. 22–23 об.). Марр обращается к Бартольду официально – «Председателю коллегии востоковедов В. В. Бартольду», сам называет себя академиком, при этом не упоминает академического звания в обращении к коллеге. Марр заступается за своего бывшего ученика – историка, этнографа А. Н. Генко, которому не была оформлена командировка без согласия Марра. Марр возмущен: он не имеет прямого отношения к Азиатскому музею, где работает Генко, командировка выделена Академией наук, сам он также находится в командировке и не видит иного смысла беспокоить его подобными запросами, кроме как дать понять, что именно он, Марр, препятствует научной работе молодого ученого. Конечно, в 1929 г. атмосфера в академической науке была очень тяжелой. Репрессии в ходе «академического дела» набирали обороты, коллеги подвергались арестам, выносились неправосудные приговоры. Марр определенно был также очень обеспокоен происходящим и мог подозревать любого в каких-то закулисных играх, направленных против него. Этим, вероятно, объясняется сухой, раздраженный тон письма.
Марр писал Бартольду практически до самой кончины коллеги. Последнее сохранившееся письмо – совершенно деловое по содержанию – датируется 10 мая 1930 г., а 19 августа Бартольда не стало.
Бартольд также ценил Марра – и ценил высоко – за профессионализм в археологии, за преданность своему делу, за достигнутые подлинные успехи в научной и организационной сферах – прежде всего как исследователя материальной и духовной культуры Ани и множества сопряженных проблем. По мнению Бартольда, заслуги Марра в исследовании Ани уже к концу 1915 г. увековечили его имя. Слова Бартольда в отзыве о трудах Марра, представленном на соискание Большой золотой медали имени А. С. Уварова, звучат совершенно искренне: «За ту четверть века, которая отделяет нас от первого знакомства Николая Яковлевича Марра с развалинами Ани, имя его связалось с ними вечной и неразрывной цепью, скованной из пятнадцатилетнего пребывания там, из четырнадцати кампаний раскопок, из ряда научных докладов и лекций, посвященных Ани, из целой серии печатных трудов, из непрерывных археологических и исторических изысканий, из учреждения на самом городище двух музеев, из установления действительной охраны развалин, из предохранения многих памятников от грозившего им разрушения и, наконец, из создания если еще не dejure , то defacto научного института специально для изучения древностей Ани и окрестной области древнего Ширака» ( Бартольд, Смирнов , 1916. С. 381).
Археологическая работа Марра отнюдь не была проста, определенно, временами она была драматична и связана с риском для жизни. Совершенно будничными выглядят его сообщения о змеях, ползающих дома и по полу, и по потолку, о том, что сын Юрий коллекционирует скорпионов и змей. «Мы как-то привыкли», – скромно пишет Марр (см. письмо В. Р. Розену от 21 июля 1905 г.: Рябошлык, 2009. С. 498). В другом письме из Ани за 1907 г. Марр сообщает о том, что сына Юрия и его спутника чуть не застрелила курдская полиция, приняв за беглых убийц (см.: Там же. С. 501). Характерно в этом отношении и письмо Бартольда Марру от 10 августа 1913 г., где Бартольд уклончиво пишет: «Здесь я узнал, что в Абхазии Вам жилось не очень хорошо и что Вы даже вызывали туда Сашу» (СПбФ АРАН. Ф. 800. Оп. 3. Д. 82. Л. 12). 8 августа 1913 г. супруга Марра Александра Алексеевна и Бартольд – то ли Василий Владимирович, то ли Мария Алексеевна, сестра жены Марра, – отправили Николаю Яковлевичу отчаянную телеграмму: «Саша страшно убита письмами успокойте телеграммой Петербург Саша Бартольд». Неясно, что за письма имеются в виду – от самого ли Марра или от кого-то из его спутников, тем не менее, определенно, участь археолога- кавказоведа не была для Марра простой. И В. В. Бартольд хорошо об этом знал и не мог не ценить.
Более ранние путешествия, о которых Марр рассказывал Бартольду в своих письмах, также не могли не произвести впечатления на коллегу. Так, в письме от 28 августа 1902 г. Марр рассказывает о том, как на пути в Иерусалим оказался на одном пароходе с больными холерой, причем два больных умерли. Марра заботило в этих обстоятельствах не то, что он с легкостью мог пасть жертвой смертельной болезни, а то, что его могли запереть в карантине на две недели и смысл поездки в Иерусалим был бы утерян. Возможно, в этих словах велик элемент бахвальства, мнимого презрения к смерти, тем не менее Бартольд, сам оказавшийся в сложной ситуации в ходе первой же командировки в Туркестан в 1893 г., не мог не ценить смелости Марра на пути исследователя.
Бартольд давал и другие оценки деятельности Марра на посту издателя и автора программных предисловий, менее дипломатичные, в частности относительно господствующих на Западе историографических течений и отношения к ним со стороны коллеги-издателя: «Редакция рус с кого научного органа могла бы отметить факт, что такой взгляд никогда не разделялся рус ски ми специалистами по исламоведению» ( Бартольд , 1912. С. 413). Получается, что Бартольд – русский ученый (немец по происхождению) – пеняет Марру (полушотландцу-полугрузину по крови) на то, что тот или ученый нерусский, или работает на науку нерусскую.
Намеренно или нет, но Бартольд совершенно обходит молчанием лингвистические изыскания Марра, хотя Марр пытался обсуждать с ним свои выводы (см. письмо от 7 июля 1913 г.: СПбФ АРАН. Ф. 68. Оп. 2. Д. 144. Л. 13–14 об.). В письмах Марра Бартольду нет ни слова о яфетических изысканиях. Определенно, Марр просил коллегу наводить справки о новой литературе по интересовавшим его сюжетам и тогда, когда от чисто лингвистических он перешел к более масштабным построениям. Так, Бартольд в письме от 26 декабря 1922 г. пишет Марру: «Сочинений о развитии речи у доисторических народов мне пока здесь не приходилось встречать» (СПбФ АРАН. Ф. 800. Оп. 3. Д. 82. Л. 38 об.).
Впрочем, и сам Марр всегда был готов пойти навстречу коллегам в вопросе книгоснабжения. Так, в недатированном письме (проставлено лишь число: 28 марта) Управляющий делами ГАИМК В. А. Миханкова сообщает академику В. И. Вернадскому, что Марр письмом из Парижа просил ее передать, что «книга о Дарвине, порученная ему для отыскания, найдена и будет переслана» (АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1086. Л. 1). Однако эта тематика прослеживается лишь эпизодически – Бартольд не был союзником Марра в его яфетических изысканиях. Заслуги Марра как археолога – подлинные – позволяли рецензенту (Бартольду) не заострять внимание на тех аспектах научного творчества Марра, которые могли ему казаться второстепенными или сомнительными. Сам Бартольд определенно не считал себя вправе обсуждать материи, в которых не разбирался.
Переписка коллег была посвящена не только собственно научной деятельности. В письмах Бартольда к Марру, в частности от 2 и 3 июня 1904 г., написанных в Ташкенте и Самарканде (вероятно, одну из дат следует трактовать по «новому стилю»; СПбФ АРАН. Ф. 800. Оп. 3. Д. 82. Л. 23–24; СПбФ АРАН. Ф. 800. Оп. 3. Д. 82. Л. 4–5 об.), проявляются причины активной деятельности по формированию среды и институтов по изучению и сохранению памятников историко-культурного значения, которыми, в частности, так богата Средняя Азия. Бартольд имел возможность высказаться по поводу формирования учебного заведения в Ташкенте двумя годами ранее, и этот сюжет не был для него нов. В статье «К проекту восточного института» (см.: Бартольд, 1906) он выступал против создания крупных научно-исследовательских учреждений и отдавал приоритет коммерческому училищу с преподаванием восточных языков с сохранением курсов местных языков для военных и гражданских служащих. Определенно, знакомство как с обществом, так и с памятниками истории и культуры Средней Азии меняло взгляды Бартольда, и он стал склоняться к тому проекту, который был двумя годами ранее отвергнут как едва ли реализуемый.
Бартольд обнаружил практически полную незаинтересованность властей на уровне генерал-губернатора в развитии научных исследований и памятнико-охранной деятельности. Крупному военачальнику А. С. Галкину молодой востоковед вынужден объяснять, что именно разразившаяся война и есть показатель востребованности исследований по истории Востока, – и в этом аспекте Бартольд понимания не нашел. Туркестанский кружок любителей археологии (ТКЛА), созданный в 1895 г. В. В. Бартольдом и Н. П. Остроумовым в Ташкенте, не мог выступить в роли необходимого института по координации научной работы в Туркестане, а В. Л. Вяткин – выдающийся исследователь истории Средней Азии, особенно Самарканда, – выглядит в глазах и властей, и местных жителей чудаком, совершенно оторванным от жизненных реалий. По этой причине Бартольд уже тогда поставил вопрос о создании университета, что понимания во властных структурах также не вызвало.
В этой связи оба его указанных письма Марру сквозят отчаянием. Он видит, с какой заинтересованностью и на каком уровне оснащения работает в Средней Азии американская экспедиция Р. Пампелли. У него на глазах в течение многих лет не мог решиться вопрос с отправкой экспедиции в Восточный Туркестан, притом что немецкие экспедиции – прекрасно оснащенные – пошли по стопам Д. А. Клеменца и имели возможность первыми исследовать наиболее выдающиеся памятники этого региона. В Самарканде у археолога было значительное поле деятельности: к середине 1904 г. еще не были выяснены основные вопросы: источники воды для древнего города, местонахождение ворот и т. д. Бартольд готов согласиться с тем, что памятники старины могут даже вывозиться за пределы России иностранными экспедициями, если сами памятники и наука от этого только выиграют: «Бог с ними, пусть исследуют, как умеют, пусть даже увозят из наших пределов предметы древности, раз мы сами не умеем ни изучать, ни даже беречь их», – с горечью пишет он Марру (СПбФ АРАН. Ф. 800. Оп. 3. Д. 82. Л. 5).
Бартольд не смог найти понимания у властей и по поводу издания журнала «Мир Ислама». После выхода четырех номеров в 1912 г. решением Министерства народного просвещения вместо Бартольда на пост редактора журнала был назначен Д. М. Позднеев. По этому поводу следует процитировать два письма Бартольда от 3 марта и 23 сентября 1913 г. к Н. П. Остроумову, в которых тот говорит, что назначение нового редактора стало «…вмешательством грубой и невежественной силы… Едва ли в настоящее время торжество невежества было возможно в какой-нибудь европейской стране… Не думаю, чтобы турецкий министр мог заявить ученому своего народа, как мне заявил Макаров, что научная литература на отечественном языке вовсе не нужна и что с наукой можно знакомиться по заграничным изданиям». В другом письме Бартольд указывает: «Ваше мнение о моем “благодушии” не вполне соответствует действительности: кстати, для благодушия пока нет поводов; редко какое правительство вело такую упорную борьбу с наукой и вызывало против себя среди ученых такое единодушное негодование, как наше» (цит. по: Акрамов, 1963. С. 59; Лунин, 1969. С. 27. К сожалению, оба издателя не указали адресата писем Бартольда).
Весьма показателен определенный параллелизм в организационно-просветительской деятельности Марра и Бартольда: 24 февраля 1910 г. на заседании Отделения историко-филологических наук Академии наук Марр поднял вопрос об учреждении Анийского археологического института. Основным побудительным мотивом было обилие добытого материала и сильнейшая диспропорция в финансировании работ: частные пожертвования практически в 20 раз превосходили государственные субсидии, а зависимость от благосклонности частных лиц привносила элемент нервозности в планирование работ ( Миханкова , 1949. С. 188–191). Академия наук и Археологическая комиссия поддержали проект Марра, однако местные власти и Министерство народного просвещения своего согласия на поддержку проекта не дали. Таким образом, ни в Туркестане, ни на Кавказе организовать соответствующие институты для развития научной и образовательной деятельности в период до Первой мировой войны ни Бартольду, ни Марру не удалось.
Важным элементом расхождения между учеными были общественные взгляды. Бартольд отличался от Марра кажущейся аполитичностью. «Я слишком мало знаком с жизнью партий...» – признавался он Марру в письме от 18 августа 1906 г., в самый разгар волнений, затронувших и ход преподавания в университете. В отличие от Марра, приветствовавшего распад имперской России (ср.: «Кавказ отнюдь не гибнет, как не гибнет и Россия: в распадении России залог ее воскресения здоровой, сильной и цветущей, как никогда») ( Марр , 1922. С. 60), Бартольд не оставил ярких политических определений даже в лихолетье 1917 г. и последовавшие за ним годы. Он не стремился покинуть Россию, хотя многократно бывал в заграничных командировках. Не был он замечен и в просоветских кампаниях.
Несмотря на кажущуюся аполитичность, Бартольд остро переживал за судьбу России. Ему отнюдь не были чужды политические события, особенно во внешней сфере, тем более что Восток продолжал играть существенную роль в российской политике и во втором десятилетии XX в. Сугубо практическое назначение исследования Востока Бартольд подчеркивает и в письме Марру от 10 августа 1913 г.: «Вывод из моих монгольских впечатлений получился довольно печальный; мне кажется, что мы ничему не научились ни в Корее, ни в Манчжурии, и собираемся повторить те же ошибки» (СПбФ АРАН. Ф. 800. Оп. 3. Д. 82. Л. 13). Нельзя не признать, что Бартольд отнюдь не был чисто кабинетным ученым (хотя именно кабинетную работу любил более всего), а мыслил значительно шире, прилагая результаты научных исследований к нуждам текущего момента.
Аполитичность Бартольда, отсутствие ярко выраженной позиции по яфетической теории Марра – в этом отношении Бартольд отличался от других коллег Марра по Академии наук, например С. А. Жебелёва, – сочетались в нем с совершенной принципиальностью по иным вопросам. Если Бартольд оставлял лингвистические изыскания Марра его научной совести, видя в нем, прежде всего, заслуженного археолога и литературоведа, то давление государства, попытки заставить работать по определенным политическим лекалам Бартольд не принимал. Совершенно откровенно он высказывал их Марру – одному из столпов советской марксистской науки. Показательно, что именно так и заканчивается переписка двух коллег: в письме от 28 февраля 1929 г. Бартольд отказывается принимать участие в издании «Азиатской» и «Восточной» энциклопедий, ссылаясь на то, что не будет следовать принципам «идеологически выдержанного руководства». «…У меня нет притязаний на усвоение марксистской идеологии», – твердо заявляет он. При этом советская историография старательно «наводила мосты» между научным творчеством Бартольда и марксистской схоластикой: «Мнение далекого от марксизма Бартольда, что “для Туркестана переход от удельной системы к ханскому единовластию, как для Европы переход от феодальных порядков к королевскому… абсолютизму, был несомненным прогрессом”, объективно отвечало взглядам основоположников научного коммунизма. Как известно, Энгельс отмечал, в частности, что королевская власть была для своего времени прогрессивным явлением, “представительницей порядка в беспорядке… в противоположность раздроблению на бунтующие вассальные государства”» ( Лунин , 1981. С. 122).
Признания Бартольда следует оценивать в ходе уже разразившегося «академического дела», когда раскручивались маховики дел Жебелёва, Платонова, Ольденбурга, Бенешевича, других действительных членов или членов-корреспондентов АН СССР. Угроза физической расправы, моральных унижений, лишения возможности заниматься научным творчеством не испугали Бартольда. Лишь во вторую очередь он ссылается на пошатнувшееся здоровье как причину отказа от участия в данных предприятиях. Показательно, что Марр в ремарке на последнее письмо Бартольда (СПбФ АРАН. Ф. 800. Оп. 3. Д. 82. Л. 49–49 об.) фактически принимает его позицию, отказывается от дальнейшего давления. Он указывает, что издание данных энциклопедий – не его дело и предприятие. Определенно, речь шла о политическом заказе, инициированном или в Нарком-просе, или ином ведомстве, отвечавшем за наведение должного идеологического порядка в востоковедении.
Бартольд был некогда фактически записан в союзники Марра в отношении к «старой» (дореволюционной) и, что следовало из текста биографии Марра, к науке новой ( Миханкова , 1949. С. 488). Однако взгляд Марра, по которому «научная работа (и в этом ее оправдание и призвание) должна не только не отставать, но и быть впереди, должна предосвещать и теоретически обосновывать пути дальнейшего социалистического развития» (цитируется неопубликованное выступление Н. Я. Марра «К открытию IV Всесоюзного съезда научных работников» (1931 г.); см.: Там же. С. 490), а сама наука была «дыханием общественности» ( Марр , 1933. С. 5), был Бартольду совершенно чужд.
Бартольд не дожил до наиболее ярких идеологических откровений Марра. Он, как и другие пережившие молох репрессий «академического дела», неизбежно был бы записан в «нетерпимые классовые враги», зачислен в «разношерстную фалангу защитников старых навыков научной работы и старого спокойного бытия и быта ученых», а отвергая «новое учение о языке», наверняка был бы обвинен в «отвратительном еврочванстве», впадении в «лицемерный скептицизм или паскуднейший нигилизм, именно агностицизм» (Марр, 1933. С. 11). Об этом говорит хотя бы то, что уже при жизни Бартольда начались выпады против него идеологического свойства, т. е. не имеющие ничего общего с научной составляющей его работ (см.: Шумилин, 1928. С. 302, 303). Непосредственно же после кончины Бартольда была запущена кампания по «отказу» от почившего ученого как в научной столице СССР, так и в отдалении от нее. Показателен в этом отношении фрагмент письма И. И. Умнякова И. Ю. Крачковскому от 2 ноября 1930 г.: «…Теперь от историков требуют другого! Что меня особенно угнетает, так это “преследование” Бартольда как у вас в Ленинграде, так и у нас в Ташкенте. О выступлении Боровкова мне писали. В Ташкенте таких открытых выступлений пока не было, насколько мне известно, но нажим сверху в смысле “отказа” от Бартольда был официально сделан. После этого помещать некролог Бартольда в бюллетене САГУ я уже не рискнул, боясь получить отказ, воспользовался приглашением и послал его для печати в Казань. Я думаю, что гонения на труды Бартольда… можно объяснить лишь тем, что сами гонители совершенно их не знают и не могли понять идеологии Василия Владимировича» (цит. по: Долинина, 2009. С. 23).
Судьба дала Бартольду возможность избежать подобных обвинений.
Переписка двух академиков – Н. Я. Марра, стоявшего у истоков институционального развития российской археологии, и В. В. Бартольда, руководившего археологическим разрядом ГАИМК, – является ценным источником сведений по истории исследований материальной культуры Кавказа и Средней Азии. Введение в научный оборот как эпистолярных документов, так и до сих пор неизданных археологических отчетов В. В. Бартольда, хранящихся в его фонде в архиве РАН (Санкт-Петербургском филиале), значительно обогатит наши представления по истории российской науки в целом и археологии в частности.
Список литературы Российская академическая наука в переписке Н. Я. Марра и В. В. Бартольда
- Акрамов Н. М., 1963. Выдающийся русский востоковед В. В. Бартольд: науч.-биогр. очерк. Душанбе: Изд-во АН Таджикской ССР. 110 с.
- Алексеев В. М., 1935. Н. Я. Марр. К характеристике ученого и университетского деятеля // Проблемы истории доклассовых обществ. № 3-4. С. 62-69.
- Бартольд В. В., 1899. Рец. на кн.: Аристов Н. А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности // Записки Восточного отделения Императорского Русского Археологического общества. Т. XI. C. 341-360.
- Бартольд В. В., 1906. К проекту восточного института // Туркестанские ведомости. № 165 (1 ноября). С. 1017-1018.
- Бартольд В. В., 1912. Рец. на кн.: Христианский Восток. Т. 1. Вып. 1. 1912 // Мир Ислама. I. C. 412-425.
- Бартольд В. В., Смирнов Я. И., 1916. Отзыв В. В. Бартольда и Я. И. Смирнова о трудах Н. Я. Марра по исследованию древностей Ани // Записки Восточного отделения Императорского Русского Археологического общества. Т. XXIII. С. 373-411.
- Долинина А. А., 2009. Из истории издания библиографии трудов В. В. Бартольда // Христианский Восток. Т. 5 (XI). C. 21-43.
- Крачковский И. Ю., 1944. К переизданию трудов В. В. Бартольда // Исторический журнал. № 1. С. 95-98.
- Лунин Б. В., 1969. Жизнь и труды академика Василия Владимировича Бартольда // Общественные науки в Узбекистане. № 11. С. 12-33.
- Лунин Б. В., 1981. Жизнь и деятельность академика В. В. Бартольда: Средняя Азия в отечественном востоковедении. Ташкент: Фан. 223 с.
- Марр Н. Я., 1922. Батум, Ардаган, Карс - исторический узел межнациональных отношений Кавказа. Пг.: Рос. гос. акад. тип. 63 с.
- Марр Н. Я., 1931. Василий Владимирович Бартольд // Сообщения ГАИМК. № 1. С. 8-12.
- Марр Н. Я., 1933. Доистория, преистория, история и мышление: К вопросу о методе и кадрах по общественным наукам. Л.: ГАИМК. 33 с. (Известия ГАИМК; вып. 74.)
- Миханкова В. А., 1949. Николай Яковлевич Марр. Очерк его жизни и научной деятельности. 3-е изд., доп., испр. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 553 с.
- Орбели И. А., 1986. Воспоминания студенческих лет // Юзбашян К. Н. Академик Иосиф Абгарович Орбели, 1887-1961. 2-е изд., доп. М.: Наука. С. 137-158.
- Рябошлык Е. И., 2009. Переписка Н. Я. Марра и барона В. Р. Розена (из архивного наследия В. А. Миханковой) // Христианский Восток. 5. C. 454-502.
- Шумилин Вл., 1928. Рец. на кн.: Бартольд В. История культурной жизни Туркестана, стр. 256, ц. 2 р. 25 к., Ленинград, изд. Академии наук (КЕПС) // Историк-марксист. Вопросы истории. № 7. С. 303-304.