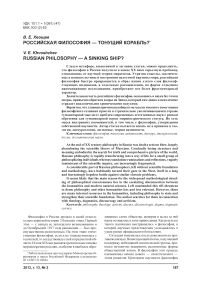Российская философия — тонущий корабль?
Автор: Хвощев Владимир Ефимович
Рубрика: Философия и социология
Статья в выпуске: 2 т.13, 2013 года.
Бесплатный доступ
Следуя метафоре, вынесенной в заглавие статьи, можно продолжить, что философия в России получила в конце XX века серьезную пробоину, отказавшись от научной теории марксизма. Утратив смыслы, заключенные в поисках истины и построении целостной картины мира, российская философия быстро превращается в образ жизни узкого слоя философствующих индивидов, а отдельные размышления, по форме отдаленно напоминающие исследования, приобретают все более фрагментарный характер. Значительная часть российских философов, оказавшись в науке без точки опоры, привычно обратила взоры на Запад, который сам давно и неизлечимо страдает аналогичными хроническими недугами. Вероятно, что главная причина всеобщего методологического помутнения философского сознания кроется в стремительно увеличивающемся отрыве гуманитарной мысли от проблем современных естественных наук с риском обретения для гуманитарной науки мировоззренческого статуса. Но есть масса внутренних возможностей, в том числе у философии, утверждения собственной научности. Автор статьи пытается искать их в привязке к теологии, дискурсологии, догматике, теории активности.
Философия, теология, активность, дискурс, дискурсология, догма, догматическая наука
Короткий адрес: https://sciup.org/147150907
IDR: 147150907 | УДК: 101.1
Текст научной статьи Российская философия — тонущий корабль?
Философия в России прошла в своей относительно короткой истории 2 больших этапа. Первый этап — с начала ее запоздалого возникновения и до Октябрьской 1917 года революции — был преимущественно религиозным. На этом этапе отечественная философия, если и не отождествлялась с теологией, то соседствовала с ней в предметной области. И хотя XIX век расшатал религиозные основы мировоззрения россиян, особенно в наиболее обра- зованных слоях общества, империя и вслед за ней наука оставались в лоне православия. Как результат такого положения выстраивалась и философия, в которой научные представления укладывались в узкие рамки официального богословия.
Ситуация изменилась после революции на противоположную. Воинствующий атеизм, получивший поддержку победившей политической группы, принялся методично искоренять религиозные формы общественной жизни. В философии этот процесс ознаменовал начало нового — атеистического — этапа развития. Критерием научности философии был объявлен жесткий материализм, не имевший в российской мысли серьезных традиций.
Вполне естественно, что освоение нового направления советской философией выглядело головокружительным взлетом философской мысли. Справедливости ради необходимо заметить, что успехи советских философов в разработке материалистической теории были не только кажущимися, но и реальными. К сожалению, материалистическая философия не меньше философии религиозной подвержена неумеренной догматизации и на этой почве утрате научности. Превращению исторического и диалектического материализма в догму всячески содействовала власть, избравшая его в качестве основы государственной идеологии.
Замена социалистического уклада жизни в середине — конце 80-х годов прошлого столетия выявила несовместимость прежней философской науки с политическими и экономическими интересами новой власти. С марксизмом в России было быстро покончено политическими методами. На этот раз обошлось даже без «философского парохода», поскольку большинство советских гуманитариев, травмированных сталинским режимом, покорно предпочло романтике полуголодного служения истине сравнительно сытое и спокойное существование в хаосе.
Такой демонтаж философской науки не мог привести и не привел к появлению новых конструкций. С заброшенной материалистической почвы философы перешли в мутное болотце «постмодернизма», где выстраиваются зыбкие постройки с аморфным статусом — «мировоззрение». Не удивительно, что при таких условиях научные споры легко превращаются в малообязывающий «диалог мировоззрений». А чтобы диалог такой непременно состоялся, достаточно, по мнению А. А. Гусейнова1, отказаться от главных принципов («первопринципов»), целиком сосредоточившись на частностях. Подобная политика сегодня последовательно реализуется и в системе высшего образования. «Высшее образование теряет свою фундаментальность», «фундаментальные концепции постепенно выводятся из вузовских учебных программ»2. А состояние образования — не последний фактор ускорения научного прогресса.
Между тем, логика развития диктует переход к третьему этапу российской философии, суть которого будет в синтезе, на первый взгляд, несовместимых духовных (в том числе, религиозных) и материальных начал либо в обретении обществом определенных жизненных принципов, фактически отвергаемых А. А. Гусейновым.
Как частный случай синтеза духовного и материального можно рассматривать сближение материалистической философии и теологии, являющимися родственными науками, имеющими, по крайней мере, в онтологической части больше сходства, чем различий. Очищенные от излишних человеческих рефлексий и фантастических аксиом и гипотез, обе становятся вполне строгими дисциплинами о сущности мироздания отличающиеся лишь методами исследования. Об одном и том же первая говорит преимущественно языком индукции, вторая твердо придерживается дедуктивного подхода. Другими словами, теология и философия гармонично до- полняют друг друга: научная философия не может пренебрегать теологической дедукцией, задающей вектор индуктивного анализа, а это значит, что теология, несмотря на трансцендентный характер своих построений, может задавать цели и смыслы не только для гуманитарных, но и для естественных наук.
В советской науке теология отождествлялась с примитивным богословием и определялась как антинаука или откровенное шарлатанство. Этот тезис мы подвергли сомнению в научно-исследовательском проекте «Обоснование теологии как науки о сущности бытия» (двухгодичный грант Министерства образования и науки РФ № 02.740.11.5205 от 22.03.2010). Результатом исследования было подтверждение научности теологии3 и возможности преподавания соответствующей дисциплины в высшем учебном заведении на неконфессиональной основе. Более того, в аналогичном светском варианте теология может стать направлением образовательной деятельности бакалавров и магистров (лицензия на право образовательной деятельности по направлению выдана университету Минобразования России в 2013 году). Развитие теологии в таком представлении, на наш взгляд, будет способствовать научному наполнению и философского знания.
В наше переходное от марксизма в неизвестность время в российской философии господствует ничем не стесненный, чуждый диалогу и критике философский дискурс. Его основные черты — автономность и самодостаточность — несовместимы с научным прогрессом, предполагающим тесное взаимодействие участников. По этой причине образуется «лоскутное» состояние философии, которое объективно способствует образованию многолико-сти и разношерстности философского дискурса4, не обремененного разумными догматическими ограничениями. Подобное состояние свойственно затянувшемуся в социально-гуманитарных науках движению от хаоса (дискурса) к упорядоченности (догме). Но рано или поздно хаотичный дискурс приходит в порядок, догматизируется, образуя в науке фундаментальную основу развития, обеспечивая в нем (развитии) очередной революционный скачок, бифуркационный взрыв.
Очевидно, что со временем сформировавшаяся догма укрепляется или разрушается дискурсом, неисчерпаемым источником которого является конкретный человек с его специфическими мнением, суждением, взглядом на мир. Изучить этот процесс мы сегодня пытаемся в ходе научно-исследовательского проекта «Диалектика дискурсивного и догматического в поисках национально-культурных смыслов» (грант Министерства образования и науки РФ № 14.B37.21.0266 от 30.07.2012).
Дискурсивный характер современной философии затрудняет формирование научного знания. Смысл бытия разрушается дискурсом и воссоздается догмой, в каких бы формах5 последняя не являлась.
Единению духовного и материального не мешает и поиск смыслообразующих принципов человеческого существования, тех самых, которые в интересах правящих групп в сегодняшней жизни «вынесены за скобки».
Одну из перспективных и незаслуженно отвергнутых философских догм следует отметить особо — материалистический активизм или в интерпретации К. Поппера «историцизм»6, дискурсивному размягчению которого отдали много сил сам К. Поппер и его сторонники. Между тем, теория активности приобретает особую актуальность в современной науке и практике по мере того, как возрастающее влияние на развитие оказывают самодвижение, самодеятельность объектов, основанные на их внутреннем потенциале. Именно это свойство материальных объектов полнее объясняет действительность и достойно быть фундаментом научного обновления философии.
Более того, теория и методология активности прямо и непосредственно объясняет и ориентирует современный технологизм науки, остро нуждающийся в фундаментальной опоре, без которой технологическое развитие ожидает неминуемый кризис. В этом направлении заслуживает внимания обращение к философской рефлексии, как принципу человеческой самодеятельности7. Вряд ли можно возразить В. Н. Усову, что «активность человеческого сознания в управлении общественной и индивидуальной деятельностью становится в настоящее время все более и более значимой»8. Однако принцип этот, взятый в сравнительно узкой сфере управленческой деятельности человека, да еще и ограниченный областью «критических ситуаций», уводит философа от общей теории вопроса к более частным — политике или стратегии рефлексивного управления.
По-видимому, концептуальную (методологическую) определенность философской рефлексии следует искать в антропологических свойствах человека, точнее, в его универсальном качестве — активности9. В свою очередь нельзя не согласиться, что «особую роль в детерминации этой активности играет философская рефлексия»10.
Уместно заметить, что 60—70-е годы XX столетия отмечены лавинообразным ростом интереса к проблемам активности со стороны философии, социологии, политической теории, прежде всего, в Советском Союзе и Восточной Европе. Силами обстоятельств интерес этот был погашен, а ущерб от этого для науки и практики до сих пор не получил надлежащей оценки.
Можно предположить, что исследование активности в ближайшей перспективе будет востребовано обществом и отдельные очаги научного интереса к теме11 получат широкое географическое распростра-нение12. Тогда российская философия (и не только она) отправится в плавание в надежном фарватере 3-го этапа развития.
Post scriptum . Было бы не верным считать концептуальную недостаточность философии в современной России фатальной. Негативные последствия отсутствия фундаментальной основы развития испытывает сегодня вся наука, особенно социальная и гуманитарная ее части. На этом фоне российские философы выглядят достойно: многие выводы их политичны, а стремление к научному диалогу оставляет надежду на преодоление складывающегося сюрреализма в познании и успешное продвижение в поисках истины и смысла человеческого существования.
Список литературы Российская философия — тонущий корабль?
- Выступление на пленарном заседании VI Российского философского конгресса «Философия в современном мире: диалог мировоззрений»//Вопросы философии. -2013. -№ 1.
- Запесоцкий А. С. Философия образования и проблемы современных реформ//Вопросы философии. -2013. -№ 1. -С. 27.
- Теология и науки о религии: монография/под общ. ред. М. А. Малышева, В. Е. Хвощева; Россия -Мексика. -Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ; Изд-во Научно-образовательного центра «Комплексные проблемы общественных наук». -2011. -559 с.
- Многоликий дискурс: монография/под общ. ред. В. Е. Хвощева, М. А. Малышева. Россия-Мексика. -Челябинск: Издательский центр ЮурГу; Изд-во НОЦ «КПОН», 2012. -671 с.
- Хвощев В. Е. Национально-культурные смыслы бытия в формате «soft & hard power»//Вестник ЮУрГУ Серия «Социально-гуманитарные науки». Вып. 19. -2012. -№ 32 (291). -С. 126-128.
- Поппер К. Нищета историцизма/пер. с англ. -М.: Прогресс; МШФ, 1993. -187 с.
- Усов В. Н. Философия рефлексивного управления. -Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. -284 с.
- Хвощев В. Е. Теория активности: от истоков к началам: монография. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ; Изд-во ЮВИГ, 2008. -168 с.
- Малышев М. А., Хвощев В. Е., Герреро Педро Каналес. Доктрина историцизма: испытание практикой. Вестник ЮУрГУ Серия «Социально-гуманитарные науки». Вып. 17. -2011. -№ 30 (247). -С. 107-117.
- Jvoschev V. Naturaleza y esencia del activismo//Dialectica. -2011. -№ 43. -P. 29-37.