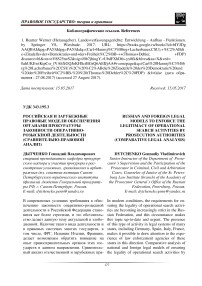Российская и зарубежные правовые модели обеспечения органами прокуратуры законности оперативно-розыскной деятельности (сравнительно-правовой анализ)
Автор: Дытченко Геннадий Владимирович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Международные отношения и внешняя политика. Международное и европейское право
Статья в выпуске: 3 (49), 2017 года.
Бесплатный доступ
В современных условиях требования к обеспечению законности оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации становятся все более строгими, и это обстоятельство делает данную тему актуальной и злободневной. Наличие такого вида деятельности и в правовых системах многих государств, в том числе, ФРГ, Испании Италии, Франции, делает возможным обратить внимание на опыт правоохранительных органов этих государств в данном направлении. Сравнительный анализ отечественной и зарубежных правовых моделей обеспечения органами прокуратуры законности оперативно-розыскной деятельности делает возможным сформулировать вывод о недопустимости механического заимствования международно-право-вых принципов, институтов и норм, без их соответствующей адаптации к исторически сложившемуся российскому правовому порядку. В силу зависимости российской и зарубежных правовых моделей обеспечения органами прокуратуры законности оперативно-розыскной деятельности от процессуального положения прокурора в уголовном судопроизводстве, очевидна нерациональность отказа отечественной правовой системы борьбы с преступностью от осуществления прокурором уголовного преследования на досудебных стадиях. Исследование данной темы так же позволяет говорить о необходимости в целях совершенствования российской правовой модели обеспечения органами прокуратуры оперативно-розыскной деятельности разработать самостоятельный процессуально-право-вой механизм воздействия прокурора на оперативно-розыскной процесс.
Зарубежный опыт, правовая система, обеспечение законности, прокурорский надзор, оперативно-розыскная деятельность, уголовный процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/142234131
IDR: 142234131 | УДК: 343.195.3
Текст научной статьи Российская и зарубежные правовые модели обеспечения органами прокуратуры законности оперативно-розыскной деятельности (сравнительно-правовой анализ)
1. Reutter Werner (Herausgeber). Landesverfassungsgerichte: Entwicklung - Aufbau - Funktionen. by Springer VS, Wiesbade. 2017. URL:
Обеспечение законности оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) в Российской Федерации требует построения особого правового порядка, который должен учитывать специфику работы соответствующих правоохранительных органов, основанную на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств. При этом, такой правовой порядок будет зависеть от правовой системы конкретного государства и преобладания в ней тех или иных правоохранительных и правозащитных институтов. В нашей стране реальный механизм, позволяющий предотвращать, эффективно выявлять и пресекать нарушение прав и свобод граждан, гарантировать их охрану и своевременную защиту в ОРД до настоящего времени находится в процессе становления [12, с. 126–132].
В этой связи следует признать, что способы обеспечения законности ОРД не исчерпываются только опытом отечественной правовой системы, в которой при существовании ведомственного, вневедомственного и судебного контроля ключевую роль играет прокурорский надзор. Развитие прокуратуры в постсоветских государствах сопряжено с серьезным пересмотром ее роли в большинстве областей прокурорской деятельности [3, с. 35–39].
Поиск путей совершенствования прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД, помимо анализа отечественной правовой системы, также предполагает рассмотрение возможностей применения зарубежного опыта в этой сфере. Различие существующих право- вых систем обусловлено способом разграничения полицейской, прокурорской и судебной функций, который основан на понимании юридической природы предварительного следствия и роли в уголовном процессе прокурора [10, с. 184].
Тесная связь ОРД с уголовным процессом, обусловленная общей целью борьбы с преступностью, позволяет констатировать наличие общих тенденций развития этих институтов в различных правовых системах. Основываясь на указанном сходстве при исследовании роли прокурора в обеспечении законности ОРД, мы допускаем аналогию с особенностями участия прокурора в обеспечении законности уголовно-процессуальной деятельности и, поэтому, используем выводы науки уголовного процесса.
В уголовном процессе стран, относящихся к континентальной правовой системе органы, осуществляющие ОРД, дознание и досудебное расследование преступлений находятся под жестким процессуальным контролем органов юстиции, суда, включая и органы прокуратуры. Так, например, в Германии прокуратуру называют "хозяйкой расследования" (§§ 161, Абз. 1; 163 УПК ФРГ) [14].
Вместе с тем нельзя сказать, что континентальная правовая система не подвержена каким-либо изменениям, обусловленным процессом сближения (конвергенции) различных правовых систем, сформированных на принципах гуманизма и демократии. Влияние правовых систем друг на друга, происходящее по причине различных международных процессов приводит к эффекту появления смешанных правовых систем, в связи с чем, в настоящее время сложно говорить о существовании той или иной правовой системы в чистом виде. Реформы, проведенные в Российской Федерации в современный период, сблизили ее правовую систему с семьей романо-германского права, как по линии юридических приемов, так и по содержанию. Все признаки, сообразно которым определяется правомерность признания национальной правовой системы в качестве члена романо-германской семьи, присущи и современной правовой системе РФ [4, с. 92–101].
В этой связи, наибольший интерес для нашего исследования представляет система правового регулирования участия прокурора в обеспечении законности ОРД, существующая в странах, относящихся к романо-германской (континентальной) правовой семье, основными представителями которых являются Франция, Италия, Испания и Германия. В данном случае также можно говорить о правовой системе Совета Европы, в который входят перечисленные государства [5, с. 35].
Представляется, что возможные заимствования соответствующего правового порядка указанных стран Европы, как представителей родственной для Российской Федерации правовой семьи, не должны вступать в конфликт с российской правовой системой. Однако общемировые интеграционные процессы вносят дополнительные трудности в ее развитие, поскольку механическое заимствование международно-правовых принципов, институтов и норм вступает в противоречие с исторически сложившимся российским правовым порядком. В сущности, имеет место юридическая экспансия, выраженная в воздействии внешней правовой системы на правовую систему России [4, с. 92–101].
Следовательно, механическое копирование способов участия прокурора в обеспечении законности ОРД, применяемых за рубежом, неприемлемо для разрешения проблем в деятельности российской прокуратуры без их соответствующей адаптации.
Сравнительный анализ отечественной и континентальной правовой систем в контексте нашего исследования позволяет выделить следующие особенности участия прокуроров названных государств в обеспечении законности ОРД.
В ФРГ прокуратура имеет функции руководства расследованием, что предопределяет наличие у прокурора широкого объема полномочий и в сфере ОРД. По информации, размещенной на официальном сайте Генеральной прокуратуры Германии, в соответствии с законом – УПК ФРГ прокуроры могут давать полиции конкретные инструкции, то есть указания

по выполнению отдельных следственных действий, а также сами участвовать в расследовании. При этом, диапазон полномочий прокуроров простирается от запросов о предоставлении информации до, (внимание!): "агентурных операций, таких как мониторинг телекоммуникаций (§ 100а УПК ФРГ) или перехват и запись не публично произнесенной речи (§ 100c УПК ФРГ)" [14]. В этой связи, следует обратить внимание на ряд правовых норм, содержащихся в уголовно-процессуальном законодательстве ФРГ, которые также определяют компетенцию прокурора в ОРД. Например, п. 100 раздела III УПК ФРГ обязывает почтовое ведомство предоставлять возможность прослушивания телефонных переговоров сотрудникам суда, прокуратуры и лицам, помогающим им в проведении полицейской деятельности. Особый интерес при сравнении полномочий прокуроров России и Германии вызывает доступ прокуроров Германии к "святая святых" оперативно-розыскной работы – работе с конфидентами (тайными осведомителями). Например, гамбургский "Циркуляр по использованию осведомителей и других информаторов" от 30.03.1982 предусматривает тесное сотрудничество полиции и прокуратуры в использовании осведомителей и в обеспечении гарантий конфиденциальности их работы [15, с. 352].
Таким образом, прокуроры в ФРГ имеют право участвовать в отдельных мероприятиях, которые по законодательству Российской Федерации отнесены к ОРД, чем, несомненно, не только обеспечивают законность ОРД, но и повышают ее эффективность.
Определенный интерес представляет сравнительный анализ компетенции отечественной прокуратуры и прокуратур Франции, Италии и Испании по обеспечению законности в сфере ОРД, которые являются классическими странами основного вида централизованной (континентальной) модели обеспечения внутренней безопасности государства. При установленной в них модели обеспечения внутренней безопасности государства судебная деятельность полиции или жандармерии заключается в содействии судебному следователю при установлении норм уголовного законодательства, сборе необходимых доказательств по его поручению, розыске и передаче ему подозреваемых [7, с. 167–179].
Следует признать, что такой подход используется и в российской правовой системе, оперативно-розыскные органы в соответствии, например, с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ и ч. 3 ст. 7 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" также содействуют органам предварительного расследования и суду в раскрытии и расследовании преступлений. Однако роль прокурора при этом в указанных странах существенно отличается от роли прокурора в России. По существующему правовому порядку, как полиция, так и жандармерия во Франции, Италии и Испании при проведении оперативно-розыскных мероприятий несёт ответственность перед судебными властями. При этом, прокуратура полностью входит в систему органов судебной власти этих стран, осуществляя надзор за законностью действий полиции и жандармерии. Именно прокурор решает какая из структур – полиция или жандармерия будет вести расследование того или иного преступления. Во Франции полномочия судебной власти (в том числе и прокуратуры – авт.) по руководству действиями указанных правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений установлены в ст.ст. 14–17 Уголовнопроцессуального кодекса [16, с. 25–29], а в Италии и Испании в Конституциях этих государств. Из ст. 109 Конституции Италии следует, что "Судебная власть непосредственно распоряжается судебной полицией". Ст. 126 Конституции Испании гласит: "Судебная полиция в своих действиях по расследованию преступлений, обнаружению правонарушителей и доказательству их виновности подотчетна судьям, судам и прокуратуре" [8, с. 76–78, с. 121–123].
Напротив, в Российской Федерации полномочия прокурора по руководству предварительным расследованием с 2007 г. были изъяты, что отразилось также и на его полномочиях по осуществлению надзора за исполнением законов в ОРД. При этом тенденции по сокращению полномочий прокурора в исследуемой сфере продолжают сохраняться [6, с. 28–29]. Ярким примером является исключение прокурора из числа лиц, которым могут быть представ- лены результаты ОРД (Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд").
В этой связи следует признать нерациональным отказ отечественной правовой системы борьбы с преступностью от использования мощного правового ресурса в лице прокуратуры, как активного участника уголовного преследования на досудебных стадиях. Значительный потенциал прокурора, как руководителя уголовного преследования в досудебном производстве, бесспорно, доказан наукой [9]. По нашему мнению отлучение прокурора от руководства уголовным преследованием существенно снижает коэффициент полезного действия российской правовой системы по сравнению с классической континентальной моделью обеспечения внутренней безопасности.
Таким образом, анализ роли прокуратуры Франции, Италии и Испании по обеспечению законности ОРД, также как и прокуратуры Германии, свидетельствует об осуществлении значительного прокурорского воздействия на оперативно-розыскные органы посредством использования полномочий, предоставленных прокурору в уголовном-процессе, что способствует достижению цели обеспечения законности и активизации их работы. Сложность интеграции указанных правовых норм континентальной правовой системы в российскую правовую модель заключается в том, что органы прокуратуры во Франции, Италии, Испании и Германии, являясь структурой судебной власти, по отношению к правоохранительной деятельности полиции исполняют функцию судебного контроля, что неприемлемо для российской правовой системы, исповедующей принцип жесткого разделения властей.
Сравнительно-правовой анализ российской модели обеспечения законности в ОРД с моделями ряда европейских стран позволяет сделать следующий вывод. В континентальной правовой системе, существует устойчивая закономерность определения степени и способов участия прокурора в обеспечении законности ОРД в зависимости от его процессуального положения в уголовном процессе. Континентальная правовая система однозначно определяет прокурора, как руководителя полицейского дознания и досудебного расследования. В связи с этим, изъятие из полномочий прокурора функции процессуального руководства на досудебных стадиях уголовного процесса в современной России, обладающей преимущественно признаками континентальной правовой системы, осуществлённое без создания каких-либо компенсирующих процессуально-правовых механизмов следует оценивать, как негативный фактор, препятствующий, в том числе, и участию прокурора в обеспечении законности ОРД.
Полагаем, что зависимость российской и зарубежных моделей обеспечения органами прокуратуры законности ОРД от процессуального положения прокурора в уголовном судопроизводстве обусловлена неразвитостью самостоятельных процессуальных механизмов участия прокурора в ОРД.
Очевидно, что по своей правовой природе прокурорско-надзорная деятельность, осуществляемая от имени государства и защищающая публичные интересы, выполняет своего рода представительскую функцию, основанную на принципе гласности. Органы предварительного расследования и суд также не могут осуществлять уголовное преследование втайне от подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, что сближает методологию прокурорско-надзорной деятельности и уголовного преследования. Невозможность осуществления прокурорской деятельности на негласной основе в России, в отличии, например, от ФРГ где прокуроры, по сути, участвуют в негласной ОРД, взаимодействуя с полицией в работе с конфидентами [15, с. 352], препятствует включению органов отечественной прокуратуры в число субъектов ОРД.
В свою очередь, уголовное преследование имеет с ОРД общую цель борьбы с преступностью, что обуславливает сходство этих видов правоохранительной деятельности. Кроме того,
органы предварительного расследования активно взаимодействуют с оперативно-розыскными органами, поручая им проведение оперативно-розыскных мероприятий и используя результаты ОРД. При этом необходимость соблюдения оперативно-розыскными органами требований ст. 89 УПК РФ для использования результатов ОРД в процессе доказывания в уголовном судопроизводстве обуславливает положительное влияние такого взаимодействия на обеспечение законности ОРД. Именно поэтому, не имея самостоятельных процессуальных механизмов участия прокурора в ОРД и возможности прямо воздействовать на оперативно-розыскной процесс, органы отечественной прокуратуры использовали свои полномочия в уголовном процессе. Такая компенсация отсутствия полномочий в одной области - ОРД, применением полномочий из другой области - уголовного процесса, использовалась как способ своеобразной адаптации прокурорского надзора к ОРД. Наглядным тому подтверждением является факт применения уполномоченными прокурорами до 2007 г. письменных указаний оперативно-розыскным органам о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Данное средство применялось на основе ст. 30 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" по аналогии с уголовно-процессуальным полномочием давать письменные указания следователю.
Вместе с тем, следует признать нерациональным такое положение, когда прокурору для обеспечения законности правоотношений в ОРД приходится использовать свое процессуальное положение в уголовном судопроизводстве, относящемся к иной правовой сфере. Поэтому, мы полагаем, что совершенствовать прокурорский надзор за исполнением законов в ОРД посредством возвращения к прежней модели использования уголовно-процессуальных полномочий нецелесообразно, поскольку это не устранит проблему полностью и не приведет к достижению желаемого результата.
Представляется, что для совершенствования прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД следует разработать самостоятельный процессуальный механизм воздействия прокурора на оперативно-розыскной процесс, подобный механизму прокурорско-надзорного воздействия на органы предварительного расследования. Основное отличие уполномоченного прокурора от роли прокурора в уголовном процессе заключается в том, что прокурор является участником, то есть субъектом уголовно-процессуальной деятельности, в то время, как в ОРД он не имеет процессуального положения субъекта, осуществляющего такую деятельность.
Данное отличие создает основную проблему эффективности прокурорско-надзорной деятельности по обеспечению законности в ОРД. Решение этой проблемы по-нашему мнению возможно посредством предоставления прокурору полномочий по санкционированию и инициированию оперативно-розыскной деятельности при наступлении определенных, условно ограниченных обстоятельств их применения, связанных с выявлением прокурором нарушений конституционных прав и свобод граждан, либо угроз государственной безопасности и жизненно-важным интересам общества. При этом правовая природа таких полномочий будет происходить не от оперативно-розыскных, но от прокурорско-надзорных правоотношений, требующих разработки соответствующей процедуры их реализации, отличающейся от участия прокурора в иных видах прокурорской деятельности.
В этой связи, представляет интерес вывод К.И. Амирбекова о том, что отличия видов прокурорской деятельности друг от друга содержатся в юридической природе полномочий прокурора, являющихся, как и объект, составным элементом прокурорского правоотношения и правовым инструментом воздействия прокуратуры на объект [1, с. 49-52].
Полагаем, что данный вывод допустимо использовать в качестве научного аргумента, подтверждающего необходимость разработать самостоятельный процессуальный механизм воздействия прокурора на оперативно-розыскной процесс. Анализ современных проблем прокурорского надзора позволяет отметить востребованность концептуальных положений о прокурорско-надзорном процессе, сформулированных В.Д. Ломовским [11, с. 9-10].
Идеи о прокурорско-надзорном процессе также развивают Е.А. Анаева, И.П. Ланг и другие, утверждая, что процессом именуется всякая деятельность, подчиненная определенным правовым процедурам [2, с. 25–30]. Мы тоже разделяем мнение о необходимости совершенствования прокурорско-надзорного процесса посредством разработки и законодательного закрепления соответствующих правовых процедур.
Необходимость определения в законе механизма санкционирования "судом или иным независимым органом" оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права и свободы граждан и юридических лиц, также поддерживается и практиками. На заседании Научноконсультативного совета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации 25.05.2017 были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении уполномоченными органами оперативно-розыскных мероприятий и отмечена необходимость усиления роли прокурора в обеспечении дополнительных гарантий соблюдения законности при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий [13].
Таким образом, исследование российской и зарубежной правовых моделей обеспечения органами прокуратуры законности ОРД на современном этапе позволяет сделать вывод об их зависимости от процессуального положения прокурора в уголовном судопроизводстве, вызванной отсутствием самостоятельных процессуальных механизмов участия прокурора в ОРД.
Реформирование отечественной прокуратуры, связанное с изъятием у прокурора полномочий по руководству уголовным преследованием в досудебном производстве обуславливает необходимость совершенствования прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД посредством развития процессуального механизма участия прокурора в санкционировании и инициировании соответствующих оперативно-розыскных мероприятий.
Список литературы Российская и зарубежные правовые модели обеспечения органами прокуратуры законности оперативно-розыскной деятельности (сравнительно-правовой анализ)
- Амирбеков К.И. Объект и предмет прокурорской деятельности: теоретический подход/Российский следователь. 2016. № 24. С. 49-52.
- EDN: XHWLCJ
- Анаева Е.А, Ланг И.П. Прокурорско-надзорный процесс как особая процедура в юридическом процессе/Вопросы экономики и права. 2016. № 2. С. 25-30.
- EDN: WHGWLV
- Головко И.И. Прокурор в гражданском судопроизводстве по делам о защите трудовых прав и свобод работников в государствах СНГ/Евразийский юридический журнал. 2014. № 9 (76). С. 35-39.
- EDN: STYMFV
- Залоило М.В., Малютин Н.С. Российская правовая система в фокусе Совета Европы: конфликт или движение к гармонизации / Актуальные проблемы российского права. 2016. № 2 (63). С. 92-101.
- EDN: VUTHVB
- Интеграционное право в современном мире: сравнительно-правовое исследование: монография/С.Ю. Кашкин и др. М.: Проспект, 2015 : Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс" (дата обращения: 10.07.2017).